Остров Фиаско, или Последние приключения барона Мюнхаузена - [13]
Но шло время, и ничего не менялось. Потом появились какие-то мальчишки. Они долго суетились около дверей, шушукаясь и переглядываясь. И вдруг один из них рванулся к контролерше и, низко пригнувшись под ее вытянутыми руками, юркнул в зал. Мальчишки радостно загалдели. Один из нас все же попал туда!..
Но грянул оркестр в фойе, и под звуки марша из зала вышел краснощекий дядя — он вел мальчишку за ухо.
— Дяденька, отпусти, отпусти! — Мальчишка морщился, вырывался, крутил головой…
— Пустите его! — закричали мальчишки. — Пустите!
— Пустите! — крикнул я.
И дяденька отпустил.
— Марш отсюда! — крикнул он сердито.
Теперь мне было все равно: и гул веселой публики, и синие билеты, и белый экран… Я совсем уже собрался домой, но тут двери распахнулись, и все хлынули в зрительный зал.
Как я верил! Даже сейчас…
Звонок, за ним — второй, третий… Все было кончено.
Свет в зале погас, фойе опустело, и контролерша захлопнула передо мной дверь. Но когда я понял, что все потеряно, что не видать мне ни корабля, ни моря, ни сокровищ, тогда я выбежал из кинотеатра и помчался к боковой двери, откуда выходили на улицу после кино. Я подбежал к ней и принялся слушать.
И я услышал шум океана и крики чаек, и хлопанье парусов, и чьи-то голоса, протяжные и зычные, теряющиеся в шуме прибоя. Наверное, это пираты… Наверное, корабль уже вышел из Бристоля, и они плывут к острову, где Флинт зарыл свои несметные сокровища. А может быть, на корабле вот-вот вспыхнет бунт, или, может, они уже приплыли? Нет, нет… Еще слишком рано. Они не успели бы… Наверное, Джим сидит в бочке и подслушивает…
Оглушительно грохнул пушечный выстрел, и чей-то хриплый, зловещий голос рявкнул на весь зал:
— Три тысячи чертей!
Да это Сильвер! Страшный, одноногий Сильвер! Я узнал его по голосу…
Я прижался к двери теснее, я затаил дыхание. Из узкой дверной щели пахнуло свежей прохладой. Это дул муссон…
Письмо
Никогда снег не пахнет так, как перед Новым годом, когда кончился последний урок второй четверти, уютный урок при электрическом свете, и впереди каникулы — двенадцать долгих прекрасных дней!
Я возвращался из школы и думал: «Как это много — двенадцать дней… Сначала пройдут три дня. Что можно сделать за три дня, даже трудно себе представить! Но это только три дня, впереди еще целых девять, в три раза больше!»
Так думал я, подставляя язык под летящие снежинки.
Дома я разделся и, запрятав подальше свой портфель, снял с полки Андерсена.
«Снежная королева поцеловала мальчика, и его сердце превратилось в кусок льда…»
Я посмотрел во двор. За окном, как и в сказке, шел снег. Безмолвно синели пушистые сугробы.
И, глядя в морозное зимнее окно, я подумал: «Вот… сейчас та снежинка превратится в Снежную королеву…» Несколько секунд я пристально следил за большой снежинкой, примостившейся в углу рамы. Но снежинка так и осталась снежинкой. Никакого чуда не произошло.
Тогда я захлопнул книгу и открыл дверь на балкон. Там, упираясь зеленой верхушкой в перегородку, стояла елка. Я долго смотрел на ее тяжелые игольчатые гроздья и глубоко вдыхал свежий запах хвои.
Наглядевшись, я уже хотел закрыть дверь, но вместо этого подхватил ладонью пригоршню душистого снега и поднес его к губам. Ох, до чего он был вкусный! Я так увлекся, что не заметил, как рядом очутилась мама.
— Что ты делаешь?! — закричала она. — Ты же недавно болел!
— Больше не буду!
Но мама и слушать меня не стала:
— Только подумать! Выскочил на балкон и ест снег! Очень жаль, но ты сам решил испортить себе праздник: будешь сидеть дома!
— Нет, не буду! — сказал я.
— Нет, будешь! — сказала мама.
— За что?
— Сам знаешь!
— Нет, не знаю!
Но мама уже вышла из комнаты. А я уселся за стол и уставился в окно. За окном все так же падал снег и все так же было красиво и хорошо. Но мне было очень плохо.
Скоро праздник, Новый год, а я… Неужели я и вправду буду сидеть дома? Но мы же с ребятами собирались строить снежную крепость… И кататься на лыжах… А каток? Как же каток?
Но почему? Почему? Что же творится на свете? Почему большие мучают маленьких? Что мы им сделали? Или, быть может, их поцеловала Снежная королева?.. Но ничего, они еще пожалеют. Еще как пожалеют!
Я взял карандаш и листок бумаги. Из кухни доносился звон тарелок — мама готовила ужин.
«Мама, я не могу тебе выразить, как ты меня обидела, — писал я. — Мама, ты нисколько меня не любишь. Поэтому я не хочу больше жить, хотя у тебя и головная боль… Теперь тебя никто уже не будет расстраивать…»
Слезы навернулись на мои глаза.
«Вы уже давно обещали повести меня в цирк, но этого никогда не будет. Но вы сходите без меня, посмотрите…»
Я представил себе, как убитые горем мама и папа выходят из цирка. Папа совсем седой…
«До чего же здорово было в цирке! — говорит он. — Если бы наш Вадик был с нами! Бедный мальчик! Это я во всем виноват. Я ругал его на каждом шагу… И заставлял есть гречневую кашу, которую он терпеть не мог…»
«Не успокаивай меня, — тихо перебивает мама. — Во всем виновата я… Это я наказала его за то, что он ел снег. Ах, если бы я только знала! Пускай бы ел себе на здоровье!»
Если бы она знала… Я снова засопел.
«До свидания, мама и папа, в третьей четверти я, наверное, стал бы отличником… — и, обливаясь слезами, добавил: — Я плачу, но скрываю».

Сборник смешных и лиричных рассказов о школе замечательного детского писателя и переводчика Марка Тарловского.Вперед, мушкетеры!Дул муссонПисьмоКричите громче!Причина пораженияГипнозДвойкаКабалаНа последнем уроке.

На страницах этой книжки вы встретите таких же мальчишек и девчонок, как вы сами. У них, как и у вас, бывают порой неприятности, огорчения, иной раз и двойки… Но, вчитываясь в страницы книжки М. Тарловского, вы услышите вдруг, как сшибаются, лязгая, шпаги мушкетеров, как таинственно плещется вода древнего Нила под днищем золотой лодки и дует сквозь дверную щель таинственный муссон…В сборник включены повесть "Золотая лодка" и рассказы: "Причина поражения", "Письмо", "Двойка", Вперед, мушкетеры!", "Гипноз", "Дул муссон", "На последнем уроке", "Кабала", "Кричите громче".
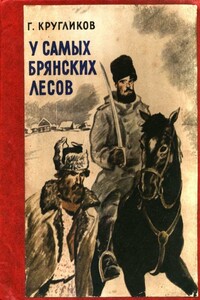
Документальная повесть о жизни семьи лесника в дореволюционной России.Издание второеЗа плечами у Григория Федоровича Кругликова, старого рабочего, долгая трудовая жизнь. Немало ему пришлось на своем веку и поработать, и повоевать. В этой книге он рассказывает о дружной и работящей семье лесника, в которой прошло его далекое детство.

Наконец-то фламинго Фифи и её семья отправляются в путешествие! Но вот беда: по пути в голубую лагуну птичка потерялась и поранила крылышко. Что же ей теперь делать? К счастью, фламинго познакомилась с юной балериной Дарси. Оказывается, танцевать балет очень не просто, а тренировки делают балерин по-настоящему сильными. Может быть, усердные занятия балетом помогут Фифи укрепить крылышко и она вернётся к семье? Получится ли у фламинго отыскать родных? А главное, исполнит ли Фифи свою мечту стать настоящей балериной?
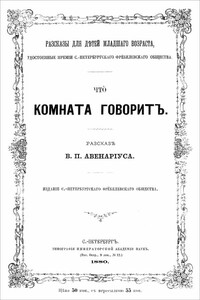
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
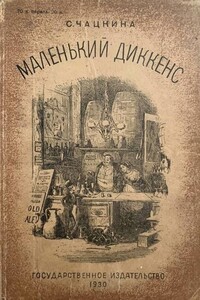
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


![Девять возвращений [Повести и рассказы]](/storage/book-covers/ed/ed7af831d7446cc273c19395f0b07a748a40724c.jpg)