Оставшиеся в тени - [8]
Такова задача, которую решал и решил своими биографическими повестями Юрий Оклянский.
Александр НЕЖНЫЙ
Шумное захолустье
(Из жизни двух писателей)
Памяти моей матери Калашниковой Анастасий Михайловны, простой русской женщины, учившей меня мужеству.
Автор
Глава первая
Тургеневская женщина перед судом самарских присяжных
…Увидишь, его творчество будет сильнее моего, и мне со временем придется перед ним преклоняться…
Александра Бостром — А. А. Бострому, письмо без даты. Куйбышевский архив.
Я не знаю до сих пор женщины более возвышенной, чистой и прекрасной.
Алексей Толстой. Автобиография, 1913 г.
22 января 1883 года на заснеженную площадь под высокие окна окружного суда, казалось, сходилась и съезжалась вся Самара.
Обогнув площадь и поднимая на раскате снежный вихрь, к подъезду подлетали наемные кибитки; степенной трусцой, позванивая бубенцами, подкатывали запряженные парами тяжелые кареты. Тянулись с разных сторон пешеходы…
По распоряжению председательствующего действительного статского советника Смирнитского в зал пропускали по заранее розданным билетам.
За деревянным барьером, отгораживающим преступника от публики, сидел всесильный предводитель дворянства Самарского уезда граф Николай Александрович Толстой, обвиняемый в покушении на убийство земского служащего Бострома.
Тридцатитрехлетний граф, плечистый, по случаю чуть бледный, с грустными глазами и драгунской выправкой, был известен в Самаре как самодур и кутила, однако не лишенный ума и фантазии. Последние качества были отлично знакомы его соперникам по дворянским выборам, где граф составил себе репутацию ловкого интригана.
Обстоятельства дела были таковы. В мае истекшего 1882 года двадцатисемилетняя графиня Александра Леонтьевна Толстая, умная, красивая женщина, начинающая писательница, во второй раз и теперь уже бесповоротно ушла от Толстого к мелкопоместному дворянину Алексею Аполлоновичу Бострому. Молодую женщину не остановила необходимость расстаться с тремя малолетними детьми. Не возымели действия ни угрозы мужа, ни уговоры родни — местных скудеющих помещиков Тургеневых, ни увещевания духовника и других священнослужителей, вплоть до специально посетившего ее на дому протоиерея самарской церкви.
20 августа в поезде, только что отошедшем от Безенчука в сторону Сызрани, произошла случайная встреча: лакей донес графу Толстому, что на этой станции в вагон второго класса сели Бостром с «ее сиятельством».
Через несколько минут в их купе послышались крики, раздался выстрел. Бостром был ранен. Сбежавшимся пассажирам он отдал револьвер, который успел отнять у графа.
Для того чтобы представить себе истинный размер сенсации, какой был для тогдашней Самары сам факт, что граф Толстой оказался на скамье подсудимых, достаточно знать, что представлял собой Самарский уезд, где Николай Александрович был бессменным предводителем дворянства чуть ли не всю свою жизнь.
В тогдашней Самаре значилось 68 329 жителей. Попечение уездного предводителя обнимало «жителей обоего пола» втрое больше — 207 710. Штаб-квартира уезда размещалась в губернском центре. И влияние уездного начальства в значительной мере затрагивало Самару.
В своем уезде предводитель дворянства был бог и царь. Граф Толстой был одновременно председателем уездных присутствий по крестьянским делам, по воинской повинности, председателем совета по дворянской опеке, председателем уездного училищного совета, почетным мировым судьей. Сверх того, за Николаем Александровичем значился еще ряд губернских постов и должностей.
Впрочем, все эти чины и звания были лишь внешним выражением богатства. Граф Толстой был одним из крупнейших земельных магнатов губернии.
Сладкую жуть, точно от полета во сне, испытывал сидящий в зале городской обыватель, видя на позорной скамье подсудимых столь могущественного человека. Грудь теснило — неизвестно даже, от чего больше: от предвкушения видов графской спальни? от подозрения подвоха? или от смиренной гордости за себя: «О господи! Узлом связаны — большая честь и бесславие!»?
Помимо тех, чьим «иждивением» и «трудами» жила тогдашняя Самара — купцов, мещан, владельцев промыслов, почетных горожан, — в зале, конечно, был почти весь «свет», самарский «бомонд». Губернские дамы с мужьями, окрестные помещики с семействами, ввиду такой громкой оказии вылезшие из своих родовых гнезд, священники, гарнизонные офицеры.
Находилась в зале суда и публика демократическая — мелкие чиновники, врачи, учителя. Самара в то время была местом политической ссылки, и именно среди этой разночинной публики находились лица, «не одобрявшие» государственное устройство в России…
Вольнодумцы, занесенные в Самару заботами полиции, хорошо понимали всю относительность сенсации, взволновавшей захолустный городишко. Для России граф Толстой не был столь видной и могущественной фигурой. А с точки зрения юридической суд рассматривал довольно банальное покушение («даже» не убийство!), в результате которого, как писал казанский еженедельник «Волжский вестник», потерпевший «был ранен пулею в ногу и теперь уже совершенно здоров».
Подлинную остроту дела они видели вовсе не в той «клубничке», которую смаковал падкий на пересуды обыватель. Быть может, более всего их занимало лицо, не явившееся на процесс, — графиня Александра Леонтьевна Толстая.
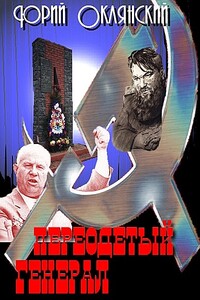
В майском номер «ДН» за 2007 г. была опубликована короткая мемуарная повесть Юрия Оклянского о знаменитом партизанском генерале и авторе гремевшей в свое время книги «Люди с чистой совестью» Петре Петровиче Вершигоре. «Людьми с чистой совестью» назвал Вершигора партизан, с которыми делил тяжелые рискованные походы. Через некоторое время автору пришло письмо от незнакомой ему читательницы, чей муж, как оказалось, имел самое прямое отношение к герою повести и к тому, что в ней рассказано. И стал разворачиваться новый сюжет…Казалось бы, прославленный партизанский командир, герой войны, генерал, к тому же знаменитый писатель.
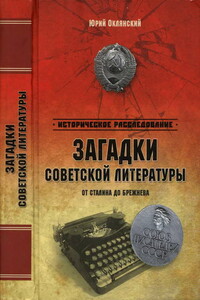
Советский классик Константин Федин в течение почти двадцати лет возглавлял Союз писателей СССР. Через судьбу «министра советской литературы» автор прослеживает «пульс» и загадки эпохи. Наряду с Фединым герои книги — М. Горький, И. Сталин, Л. Берия, Н. Хрущев, аппаратчики ЦК и органов безопасности, естествоиспытатель В. Вернадский, И. Бунин, А. Толстой, Е. Замятин, Стефан Цвейг, Б. Пастернак, А. Ахматова, А. Твардовский, А. Солженицын, а также литераторы более молодого поколения. Ю. Трифонов, любимый из учеников Федина, поэты А.
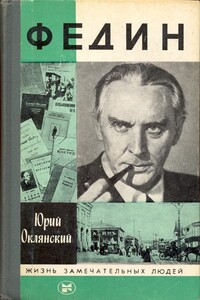
Предлагаемая книга — первая биография советского писателя, ученого и общественного деятеля, Героя Социалистического Труда К.А. Федина. Воссозданию обстоятельств жизни, окружения и личности К.А. Федина помогло знакомство автора с писателем, встречи и переписка с ним на протяжении почти двух десятилетий. В книге впервые использовано большое количество новых, ранее не публиковавшихся материалов, документов, переписки из государственных хранилищ и частных собраний СССР и ГДР.Рецензенты:Сектор советской литературы Институтарусской литературы АН СССР (Пушкинский дом)в Ленинграде.Государственный музейК.А.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.