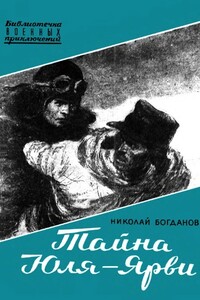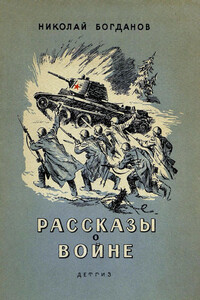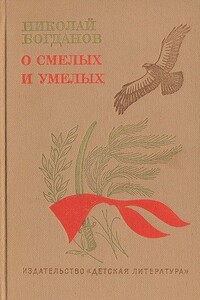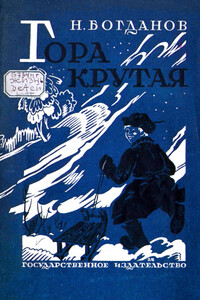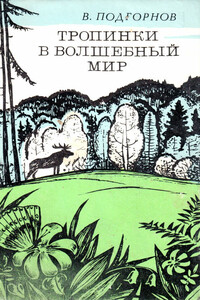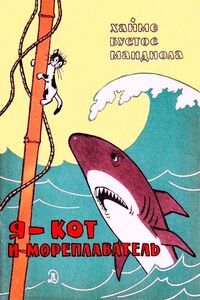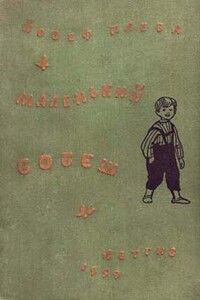Огонь поднял к небу длинные кровавые руки.
На барских лошадях догоняли озорные парни господ, но вернулись с пустыми руками.
Бесился Дикой с досады, плакал, визжал, что не смог выместить ни за отца, ни за деда, ни за свои обиды на живом человеке.
Рыская по усадьбе, наткнулись на лошадь. Бросилась в глаза, угадал — та самая, на которой барышня сидела. Подошел, бушует в груди хлеще огня, что жрет барский дом, — размахнулся — хвать Игрушку по холеной морде.
Ужас расширил глаза лошади, она осела на задние ноги и задрожала дробно и часто.
Испугался себя Дикой: за што же тварь-то… нельзя…
— Тпру, стой, коняш, не бойсь, не бойсь, — погладил по ударенной сурне.
Поняла Игрушка Ваську и прильнула к плечу, все еще дрожа.
Васька обротал ее, вскинулся на мягкий круп и зашептал, пригибаясь к уху:
— Поедем, коняш, моя будешь!
Лошадь шла, покорно вздыхая, как человек, и поводя тонкими ушами, когда ветер бросал к ногам шум пожара. Ночь была черная. В селе горланили петухи, думая на пожар, что наступает утро.
Васька приехал к хате, привязал коня и долго не мог оторвать глаз, зачарованный пожаром.
Потом, вдруг, очнулся, кинулся к хате и с сердцем, обрывая, ссаживая руки, стал срывать и отшвыривать доски, залепившие глаза избе.
А пожар полыхал, взметывал к нему клубы и кровянил ночь. К утру догорели дом и строения. Прошедший дождь омыл пожарище.
На весну обществом запахали гарь и засеяли рожью.
Первые года не родилась, была тощая и редкая, а теперь взметывается озорно и кучеряво, и не отгадаешь, где было поместье, а где простое место.