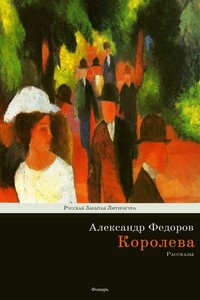Осенняя паутина - [9]
Спешить было некуда. До станции вёрст пятнадцать всего, а выехали больше нем за два часа. Поезд приходит на закате.
Светило солнце. Степь дымилась лёгким душистым паром, и с неба, в котором стояли неподвижно облака, падали песни жаворонков. Золотились озими, и на душе у Севы было легко, как в облаках.
Местами на дорогах ещё не просохли зажоры, лошади хлюпали по воде, обрызгивая морды и недовольно фыркая; колеса вязли и тяжелели от грязи. А то вдруг дорога шла почти окрепшая, посветлевшая от солнца, и жаль было, когда грязные колеса оставляли на ней грубый след и липкие черные комья.
Вдали слышался журчащий клёкот.
— Посмотрите, паныч, — обратил внимание Севы Семён, обернувшись с козёл и указывая вперёд кнутовищем. И в то время как кривой глаз его тускло оловянел, другой дружелюбно подмигивал.
За лошадьми ничего нельзя было разглядеть. Сева поднялся в коляске и увидел аистов. Они собирались в кружок на самой дороге. Посредине круга стоял один из аистов, вероятно, старший и, важно подняв голову, выслушивал остальных.
Сева попросил попридержать лошадей и вылез из коляски, чтобы лучше видеть эту знакомую ему, но всегда удивительно забавную сцену.
Лишь только он ступил на землю, как ему захотелось вдруг прыгнуть, громко запеть, засмеяться, даже просто грудью лечь к земле и поцеловать её. И не сделал этого, потому что не хотел уронить себя в глазах Семена и из боязни смутить аистов.
Они были всего шагах в пятидесяти от него, так что можно было ясно видеть их красные ноги. Занятые своим важным советом, дикие птицы даже не заметили близости посторонних. Изящно на своих высоких ногах и, как будто одетые в изысканные фраки, аисты переговаривались между собою, поводили головами и, вообще, проявляли необыкновенную солидность и важность.
— Чистые министры! — со смехом одобрил их Семён. — И умная птица! Помните, как покойная барыня нашла одного такого с перебитым крылом, вылечила его, так он за ней, как жених за невестой, ходил.
Это напоминание на минуту заволокло радостное настроение Севы печалью. Как ей было не отнестись с состраданием к раненой птице! Она сама походила на птицу с переломленным крылом. И он почувствовал глубокую нежность к её памяти.
Несколько в стороне от дороги, на холме, похожем на могилу, белели цветочки подснежника. Сева подошёл к ним. Лёгкие, воздушные, с грациозно закрученными лепестками, первоцветы поражали своей чистотой и трогательной беспомощностью.
Воспоминание о ней так слилось с впечатлением от цветка, что у него выступили на глазах слезы от одного прикосновения цветка к щеке.
— Милая, милая, — прошептал он, закрывая глаза от беззаветного восторга и тихой печали. На мгновение он забыл о небе, о земле и об аистах, — но в ту же минуту почувствовал, что краснеет от осветившего его сознания: стало неожиданно ясно, что он любил жену своего брата не так, как родную, а в это чувство вливалось другое, о котором он сам не подозревал даже за час перед тем. Из земли, где тлел её прах, она дала ему постичь смысл и особенность его любви к ней. Любовь раскрылась в теплых душистых испарениях, в венчиках безуханных, слабых, но не боящихся заревого холодка цветов, в сиянии неба, которое льётся в самую кровь. И оттого ему хотелось поцеловать землю. Это откровение сначала испугало его самого. Не было ли оно греховным и оскорбительным для её памяти?
Он оглянулся вокруг, спрашивая небо и землю, и весну: так ли?
Все улыбалось ему в ответ весело и ясно, и на душе сразу стало легко, как в облаках.
Курлы... курлы... беседовали аисты, и их голоса мягко и печально журчали в степной тишине.
Теперь они уже не стояли так важно, как раньше, а плавно переступали с ноги на ногу, не нарушая круга, точно танцевали, и средний был дирижёром.
— Трогай, Семён, потихоньку — я рядом пройдусь, — обратился Сева к кучеру и сделал несколько лёгких движений вперёд, разминая на ходу руки.
— Посмотрю я на вас, паныч, — совсем вы как тая птица. И совсем ну, как надо — человек. Такой длинноногий стали. А всего год назад этакий кныш были.
Севе это признание его «как надо человеком» очень польстило. Он подёргал себя за еле пробивающийся пушок на губе и солидно произнёс:
— Да, tempora mutantur[1].
Семён засмеялся.
— Вот же, разве я неправду говорил, что вы, как тая птица. И говорите по-ихнему.
Аисты заметили посторонних, заклекотали тревожнее и оставили свой танец.
Средний аист неторопливо кивнул окружающим, и вся стая, сделав несколько прыжков в одну сторону, распустила крылья и, точно взвешивая ими воздух, поджав ноги и вытянув шеи, плавно полетела вдаль. И красив, строен и важен был полет мирных свободных птиц.
Сева вздохнул, глядя им вслед, как будто жалел, что, действительно, не птица.
— Теперь едем, Семён, — пора.
Сел в коляску и лошади побежали рысцой.
II
Станция стояла одинокая, каменная, красная, и по обе стороны от неё разбегались рельсы и телеграфные проволоки; им-то и была обязана станция своим существованием. Станция имела два входа, для двух разных миров: внешний для того, который чаще всего лишь на минуту заглядывал сюда, мчась из неведомого далека в противоположную даль с громыхающим поездом — и другой — для того мира, который тихо и смиренно жил вокруг на этих бесконечных трудовых полях.

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.

«Рогнеда сидит у окна и смотрит, как плывут по вечернему небу волнистые тучи — тут тигр с отверстою пастью, там — чудовище, похожее на слона, а вот — и белые овечки, испуганно убегающие от них. Но не одни только звери на вечернем небе, есть и замки с башнями, и розовеющие моря, и лучезарные скалы. Память Рогнеды встревожена. Воскресают светлые поля, поднимаются зеленые холмы, и на холмах вырастают белые стены рыцарского замка… Все это было давно-давно, в милом детстве… Тогда Рогнеда жила в иной стране, в красном домике, покрытом черепицей, у прекрасного озера, расстилавшегося перед замком.
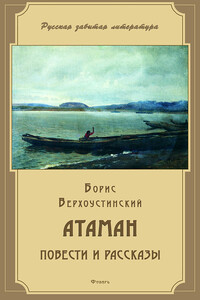
«Набережная Волги кишела крючниками — одни курили, другие играли в орлянку, третьи, развалясь на булыжинах, дремали. Был обеденный роздых. В это время мостки разгружаемых пароходов обыкновенно пустели, а жара до того усиливалась, что казалось, вот-вот солнце высосет всю воду великой реки, и трехэтажные пароходы останутся на мели, как неуклюжие вымершие чудовища…» В сборник малоизвестного русского писателя Бориса Алексеевича Верхоустинского вошли повести и рассказы разных лет: • Атаман (пов.

«Осенний ветер зол и дик — свистит и воет. Темное небо покрыто свинцовыми тучами, Волга вспененными волнами. Как таинственные звери, они высовывают седые, косматые головы из недр темно-синей реки и кружатся в необузданных хороводах, радуясь вольной вольности и завываниям осеннего ветра…» В сборник малоизвестного русского писателя Бориса Алексеевича Верхоустинского вошли повесть и рассказы разных лет: • Перед половодьем (пов. 1912 г.). • Правда (расс. 1913 г.). • Птица-чибис (расс.

Михаил Владимирович Самыгин (псевдоним Марк Криницкий; 1874–1952) — русский писатель и драматург. Сборник рассказов «Ангел страха», 1918 г. В сборник вошли рассказы: Тайна барсука, Тора-Аможе, Неопалимая купина и др. Электронная версия книги подготовлена журналом «Фонарь».