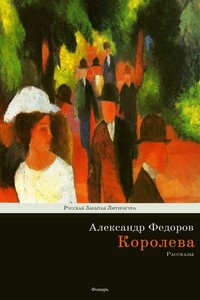Осенняя паутина - [14]
Ещё прежде, нем сесть на стул, Эмма уже ткнула пальцами в клавиши, и рояль вскрикнул, как от боли.
Сева посмотрел на брата.
Тот за ужином пил много вина, и лицо его стало красным. И как всегда, когда он много пил, он становился сосредоточенным и злым. Но Сева объяснил бы себе его настроение по-своему, если бы брат не смотрел на неё такими пристальными, несытыми глазами.
Она заиграла какой-то вальс, потом перешла на другое, опять бросила это и стала играть шансонетку, подпевая немецкие куплеты. Во время её пения гости, не понимая слов, тоже подпевали ей и подмигивали друг другу.
Севе хотелось подойти к ней, ударить её, повалить на землю и бить и царапать это пышное душистое тело до тех пор, пока оно не обольётся кровью.
Он был очень силён. Это было у них в роду. И в эту минуту ощущал в себе почти звериную силу, и это ощущение опьяняло его. Оно каким-то непонятным образом связывалось с её затылком, отягчённым пышными волосами, и особенно с этими раздражающими завитками у неё на шее. Сева впился в эти завитки взглядом. Его кулаки сжимались, а в глазах начинало рябить, когда он почувствовал на себе тяжелый вопросительный взгляд брата.
Сева пошёл к выходу. Брат его не останавливал, а нагнулся в это время к Эмме и, криво улыбаясь, что-то шепнул ей. Она кивнула головой.
Сева стоял на крыльце и тяжело дышал.
Лёгкая белая борзая «Пурга» бесшумно подошла к нему и прижалась к ногам упругим сухопарым боком и, вытянув длинную тонкую морду, замерла.
Сева машинально погладил её: она не шевельнулась. Он думал о том, как покойная любила эту собаку, и собака как-то особенно шла к ней. Они вместе всегда Севе напоминали старинную картину, которую он где-то когда-то видел. Может быть, в раннем детстве, когда путешествовал с матерью за границей,
Зачем у него теперь нет никого, к кому бы он мог пойти сейчас и рассказать все, что так томит и мучит... Рассказать все? Нет, всего он бы не мог рассказать и не сумел.
Ночь взглянула на него далёкими чужими глазами, дохнула в лицо влажным сумраком.
Он всем чужой. Был брат, — он как будто похоронил его. Что теперь делать? Умереть? Убить её? Убежать отсюда?
Послышались шаги: это шел Вячеслав. Сева хотел уйти спрятаться в степь, но собака, как стальная, стояла на пути. Он весь сжался, ушел в себя и стиснул зубы, точно ждал нападения, даже удара.
Брат подошёл почти вплоть к нему, так что слышно было, как он сопел носом, и ясно ощущался запах вина.
— Вот что, Всеволод, — заговорил он, не раскрывая рта, — это ты оставь.
Сева молчал.
Тот перевёл дух и заговорил сдержаннее, даже мягче.
— Ты уже не мальчик... не ребёнок, хотел я сказать. Стало быть, пускаться с тобою в объяснения я не стану. Понимаешь?
Сева хотел кротко возразить брату; напомнить ему о его покойной жене, растрогать его. Он уже мысленно мирился с ним, оба они даже плакали, а Эмму на другой день отправляли обратно. Но слова не шли на язык.
Тогда Всеволод заговорил, все более и более распаляясь от своих же слов:
— Это никого не касается, кроме меня, и, если я привёз её сюда, значит, у меня были причины... основания. Она — артистка! — с неестественным ударением произнёс он. — И я заставлю её уважать. Да, артистка, своим трудом зарабатывающая себе хлеб.
Но тут же он впал в раздражение на себя за то, что унизился до этой фальши перед младшим братом, перед мальчиком, который не вправе судить и осуждать его.
— Наконец, кто бы она ни была, никто не смеет относиться к ней дурно.
Тогда искусственно кроткое состояние покинуло Севу, и он заговорил совсем так же, как брат, но с мальчишеской запальчивостью:
— А я буду относиться к ней так. А я буду, буду. Да, да, да...
Слов у него не хватило. Он почти задыхался от волнения, но, чтобы не дать брату перебить себя, выпалил первое, что пришло ему на ум:
И вдруг почувствовал, как слезы прилили к глазам, и сначала где-то глубоко в груди, как птицы, забились рыдания. Он оттолкнул собаку и бросился с крыльца в калитку, оттуда в степь.
Тут, не помня ничего, рыдая и колотя себя в грудь, он пустился бежать вперёд, туда, где красный поникший месяц блестел над высоким бугром так близко, что походил на медный щит на груди уснувшего великана.
Сева бежал, спотыкаясь, охватываемый сумраком, который как будто хотел удержать его. Наконец, он стал уставать, задыхаться от бега, и ещё больше — от рыданий.
И тут ему показалось, что кто-то белый, бесшумный следует за ним по пятам. Он боялся оглянуться и только искоса взглянул в сторону и задрожал с головы до ног... Сбоку, действительно, мелькнуло что-то белое. Он вскрикнул и, закрыв лицо руками, почти теряя сознание, повалился на землю.
Очутившись на земле, он почувствовал странную лёгкость, блаженное ощущение бесплотности. «Пурга», все время бежавшая за ним, склонилась над его лицом и, подняв голову к месяцу, завыла так, что от её воя задрожал мрак и далеко передал этот вой по степи.
Хотелось ничего не видеть, не слышать, не ощущать, даже безбольно, бессознательно умереть. Но при одном прикосновении его груди к земле, вернулись не только силы, но и жажда жизни. Он услышал издали крик:

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
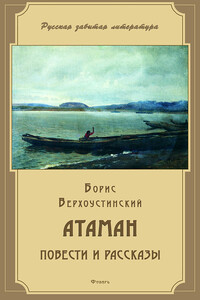
«Набережная Волги кишела крючниками — одни курили, другие играли в орлянку, третьи, развалясь на булыжинах, дремали. Был обеденный роздых. В это время мостки разгружаемых пароходов обыкновенно пустели, а жара до того усиливалась, что казалось, вот-вот солнце высосет всю воду великой реки, и трехэтажные пароходы останутся на мели, как неуклюжие вымершие чудовища…» В сборник малоизвестного русского писателя Бориса Алексеевича Верхоустинского вошли повести и рассказы разных лет: • Атаман (пов.
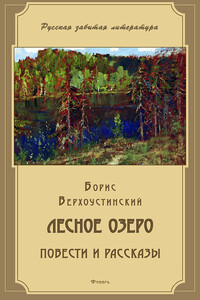
«На высокой развесистой березе сидит Кука и сдирает с нее белую бересту, ласково шуршащую в грязных руках Куки. Оторвет — и бросит, оторвет — и бросит, туда, вниз, в зелень листвы. Больно березе, шумит и со стоном качается. Злая Кука!..» В сборник малоизвестного русского писателя Бориса Алексеевича Верхоустинского вошли повесть и рассказы разных лет: • Лесное озеро (расс. 1912 г.). • Идиллия (расс. 1912 г.). • Корней и Домна (расс. 1913 г.). • Эмма Гансовна (пов. 1915 г.).

«Осенний ветер зол и дик — свистит и воет. Темное небо покрыто свинцовыми тучами, Волга вспененными волнами. Как таинственные звери, они высовывают седые, косматые головы из недр темно-синей реки и кружатся в необузданных хороводах, радуясь вольной вольности и завываниям осеннего ветра…» В сборник малоизвестного русского писателя Бориса Алексеевича Верхоустинского вошли повесть и рассказы разных лет: • Перед половодьем (пов. 1912 г.). • Правда (расс. 1913 г.). • Птица-чибис (расс.

Михаил Владимирович Самыгин (псевдоним Марк Криницкий; 1874–1952) — русский писатель и драматург. Сборник рассказов «Ангел страха», 1918 г. В сборник вошли рассказы: Тайна барсука, Тора-Аможе, Неопалимая купина и др. Электронная версия книги подготовлена журналом «Фонарь».