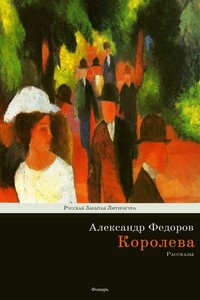Осенняя паутина - [12]
Вероятно, и Эмме было около этого. Но она, невидимому, была очень здорова, свежа от природы и не прибегала вне эстрады к косметикам.
Полное лицо её с пышными рыжеватыми волосами не выдавало опухлостей щек и морщинок около глаз и носа. Только губы её казались несколько поблекшими и помятыми. Она, конечно, это знала и потому часто облизывала их и закусывала белыми, неприятно ровными зубами.
Закат тускнел, тускнело небо и воздух и земля, как будто из них кто-то невидимый постепенно выпивал сияние и тепло. Сразу засвежело, и лошади теперь уже не так мягко ступали по дороге: стук их копыт раздавался все отчётливее и звончее. И лужицы затягивались тонким совсем белым ледком, который с треском фарфора разбивался под копытами. Холодный, слегка стаявший месяц засиял на холодном небе, и звезды, дрожа, как задуваемые ветром свечи, затеплились так высоко, что месяц как будто и не касался их своим сиянием.
Казалось, что путь будет долог, долог, и также долго будут бежать лошади и светить звезды и пахнуть раскрывающей душу землёй.
Было как-то странно подъехать к дому из свежего мрака этой тихой весенней ночи.
Севу охватывало при этом приближении жуткое, почти болезненное чувство. Вот за этим холмом, который кажется при лунном свете большой могилой, поворот к усадьбе и сейчас — конец.
Чему? Он сам себе ещё не отдавал ясного отчёта, но мучительно чувствовал, что наступает конец чему-то блаженно-дорогому для него. Он уже больше никогда не увидит такими, как сейчас, землю и небо, и ночь. Все кончено.
Откуда-то сверху стали падать таинственные трогательные звуки: перекликались журавли.
Все подняли головы, но ничего не было видно, кроме месяца и звёзд, и это сообщало особое очарование ночным голосам диких птиц. Звуки их падали в сумрак и на землю, придавая всем чувствам и мыслям невыразимо сладостный, сказочный подъем.
Сева уже начал было несколько примиряться с ней за её молчание, служившее как бы выражением уважения к этой великой ночи, когда она вдруг, неожиданно спросила:
— А что, тут нет разбойников?
— Разбойников? — удивился старший брат, — по-видимому так же, как и Сева, внутренне оскорблённый этим вопросом и принуждённо рассмеялся. — Слышишь, Сева, Эмма Федоровна боится, как бы её не убили здесь, в нашей степи.
Сева ничего не ответил. Но она по-своему поспешила загладить свою оплошность.
— О, нет. Я не сомневаюсь ни на минуту, что, если бы и напали на нас разбойники, — вы бы защитили меня. Но мой багаж, который идёт за нами...
— Не беспокойтесь, и багаж будет в целости, — ответил он, и неестественным голосом, точно ободряя самого себя, воскликнул: — Ну, вот мы и дома.
Было ясно, что он сам чувствует себя не совсем ловко.
Залаяли собаки. Семён протяжно свистнул, — лай сменился радостным визгом.
— Ах, ах! — заволновалась гостья. — Это чудесно. Я не видала ничего подобного.
Она захлопала в ладоши, выражая с явным преувеличением свой восторг и настроение.
Хуторские рабочие в этот час уже спали, но прислуга встретила приезжих с большим оживлением и услужливостью.
Сева поспешил первый выпрыгнуть из коляски и вбежать в дом, чтобы не видеть впечатления, которое произведёт и здесь на всех приезд этой особы: ведь все сразу поймут, кто она и зачем приехала. Было ещё что-то, что заставляло его опередить гостью, но и это было бессознательное: он боялся и вместе желал, чтобы белый нежный призрак встретил его и брата на пороге вместе с нею, и подняв руку, как светящееся крыло, сказал:
— Нет. Я ещё здесь.
Но они уже всходили по ступенькам под руку. Вячеслав держался как-то особенно прямо и рассеянно отвечал на приветствия прислуги, как бы всецело занятый своей спутницей. Очевидно, сразу желал внушить всем уважение к ней.
Она тоже инстинктивно прониклась его настроением и шла совсем не так, как на платформе — два часа тому назад.
В столовой был приготовлен ужин и хозяин был доволен, что все в порядке.
— И окна выставили. Отлично.
Она созналась, что голодна. Но, прежде чем сесть за стол, выразила желание осмотреть дом.
— Пойдём, Сева, покажем гостье нашу хижину, — снисходительно, но опять с той же опаской произнёс старший брат, и снова подал ей руку.
Со времени смерти жены спальня была заперта. Там и окон не выставляли. Он спал у себя в кабинете. Севу коробило при одной мысли, что брат прикажет отпереть спальню для неё. Он покуда не сделал этого.
В кабинете она прежде всего обратила внимание на большой портрет Веры Николаевны.
Вера Николаевна была вся в белом, такая прекрасная и чистая, что Эмма как-то потерялась перед ней. Хотя то, что та совсем не показалась ей красивой, удержало её от ревности и злости.
Она сразу догадалась, что это покойная жена Вячеслава, и не могла устоять от искушения сказать хоть несколько слов:
— Это, вероятно, портрет, когда ваша жена была невестой?
У Севы забилось сердце. Да, да, она именно казалась всегда невестой.
Есть женщины, которые всю свою молодость производят такое впечатление, хотя бы были замужем, даже имели детей.
И опять Сева повторишь про себя настойчивую фразу:
— Нет, это через два года после брака, — сухо ответил брат и поспешил увести гостью в её комнату.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
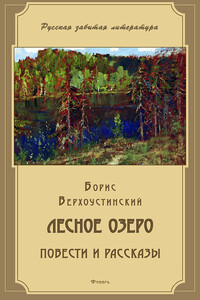
«На высокой развесистой березе сидит Кука и сдирает с нее белую бересту, ласково шуршащую в грязных руках Куки. Оторвет — и бросит, оторвет — и бросит, туда, вниз, в зелень листвы. Больно березе, шумит и со стоном качается. Злая Кука!..» В сборник малоизвестного русского писателя Бориса Алексеевича Верхоустинского вошли повесть и рассказы разных лет: • Лесное озеро (расс. 1912 г.). • Идиллия (расс. 1912 г.). • Корней и Домна (расс. 1913 г.). • Эмма Гансовна (пов. 1915 г.).
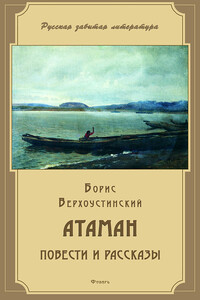
«Набережная Волги кишела крючниками — одни курили, другие играли в орлянку, третьи, развалясь на булыжинах, дремали. Был обеденный роздых. В это время мостки разгружаемых пароходов обыкновенно пустели, а жара до того усиливалась, что казалось, вот-вот солнце высосет всю воду великой реки, и трехэтажные пароходы останутся на мели, как неуклюжие вымершие чудовища…» В сборник малоизвестного русского писателя Бориса Алексеевича Верхоустинского вошли повести и рассказы разных лет: • Атаман (пов.

«Осенний ветер зол и дик — свистит и воет. Темное небо покрыто свинцовыми тучами, Волга вспененными волнами. Как таинственные звери, они высовывают седые, косматые головы из недр темно-синей реки и кружатся в необузданных хороводах, радуясь вольной вольности и завываниям осеннего ветра…» В сборник малоизвестного русского писателя Бориса Алексеевича Верхоустинского вошли повесть и рассказы разных лет: • Перед половодьем (пов. 1912 г.). • Правда (расс. 1913 г.). • Птица-чибис (расс.

Михаил Владимирович Самыгин (псевдоним Марк Криницкий; 1874–1952) — русский писатель и драматург. Сборник рассказов «Ангел страха», 1918 г. В сборник вошли рассказы: Тайна барсука, Тора-Аможе, Неопалимая купина и др. Электронная версия книги подготовлена журналом «Фонарь».