Осенняя история - [12]
Мучительная скука в немалой степени усугублялась однообразными причудами хозяина, вначале забавлявшими меня, теперь же откровенно раздражавшими. Подобных странностей у старика имелось множество. Возьму, к примеру, две из них. При нашей скудной пище свободного пространства на столе всегда бывало через меру, однако всякий раз хозяин испытывал потребность отвоевать себе как можно больше места. Он то и дело придвигал ко мне тарелки и судки, солонку и краюшку хлеба. Лишь окончательно разгородив застольные владенья, он упирался в них локтями и будто успокаивался. Однажды вымыв руки к трапезе, он уж не мог коснуться вещи грязной или чистоты сомнительной. Чтобы придвинуть стул, хозяин поднимал его за спинку сжатым кулаком либо подталкивал одним мизинцем. Хватало и других причуд, помельче. Я принимал их за глухие отголоски уродливого нрава предков — той старомодной властности и утонченности, что, сочетаясь, приобрели в потомке болезненный оттенок.
В тот день задул свирепый ветер, заладил нескончаемый, упрямый дождь. Внутренности дома окутала такая темь, что я невольно стал склоняться к тому или иному плану действий. Нельзя сказать, что охватившее меня томленье унялось, наоборот, скорее, возросло. И не случись события, которого я мог бы ожидать, но все-таки не ждал, возможно, эта повесть не имела б продолженья. Тот случай, сам по себе пустячный, помог мне выйти из оцепенения. Короче говоря, в наш дом явился гость. Судите сами, это ль не событие?
Я задремал немного в придвинутом к камину кресле, когда в дверях возникло странное созданье; а впрочем, странным оно могло казаться кому угодно, но не мне, уже видавшему подобных типов. То был дряхлеющий старик, пастух или крестьянин, с сухим, морщинистым, как глина, лицом-печеным яблоком; на нем застыла придурковато-отрешенная гримаса радости и вместе грусти. Нечто от монгола, иль индуса, иль краснокожего образовало в нем причудливую смесь всех одичалых благородных рас. Мне попадалось несколько подобных лиц во времена моих скитаний по горам, там их число неумолимо таяло. Он был из тех, кто в продолжение всей жизни или, вернее, до известных лет спускаются в селение единственно по праздникам святого покровителя. Сама одежда горца — и та разнилась с одеянием равнинных жителей.
Я знал, что объясниться с ними нет никакой возможности — столь редкостным и непонятным слыло их древнее наречие, а я и нынешнее понимал с трудом. И все же я осведомился у него о положении в округе. Не шелохнувшись, пастух взирал на незнакомца с непроницаемо-серьезным видом, так, словно перед ним стоял загробный призрак. Ответствовал он крайне медленно, глухим, осипшим голосом и оправдал мои сомненья: из сказанного я не уяснил ни слова. Судя по большой корзине, надетой на руку, и пухлому мешку, закинутому за плечо, пастух доставил в дом провизию. Из тарабарщины пришельца я разобрал: он ищет старика и ни о чем другом знать не желает. Тем временем последний уже бесшумно вырос за спиной. Пастух шагнул ему навстречу, припал к руке. С большим усилием собрался было опуститься на колени, но мой хозяин вовремя его остановил и, что-то пробурчав на том же непонятном языке, увлек в глубины дома.
Спустя примерно четверть часа гость и хозяин возвратились, один вослед другому. Пастух кивнул, не глядя в мою сторону, и вскоре оба вышли. Сердце будто сжалось, когда я увидал, как он уходит. Хоть он и был пришельцем, но все же из живого мира, а я, казалось, находился в царстве мертвых. Однако покидать его не собирался.
Вернувшись в дом, хозяин смерил гостя взглядом, который я назвал бы ироническим по отношению к другому человеку, и процедил сквозь зубы:
— Он передал: там никого.
Старик наверняка имел в виду, что ни дозоры, ни прочая опасность мне не грозят. Он вновь открыто призывал меня убраться раз и навсегда.
Глава восьмая
Убраться раз и навсегда? Как бы не так! Я твердо положил наутро снова приступить к осмотру дома. По правой половине я проходил два раза в день. С недавних пор, едва проснувшись (в час наиболее благоприятный по нескольким причинам), я неизменно обнаруживал хозяина у входа в спальню — в позе провожатого. Его недремлющее око мне предстояло обойти.
На ужин появился свежий хлеб и даже чуть перебродившее вино, благодаря которому язык хозяина подразвязался. Однако он завел пустые разговоры о всякой всячине и среди прочего, увы, о книжности латинской. Излишне говорить, сколь мало трогала меня подобная беседа. И лишь когда наш разговор коснулся Франции или чего-то там французского, старик схватил меня за руку и прошептал:
— Париж, ах, Париж!..
Париж, являвшийся общеизвестной Меккой для всякого высокородного южанина, как видно, вызывал у старика особенно приятные, а может, неприятные воспоминанья. Затем хозяин снова погрузился в обычное молчание.
Взяв масляную лампу, он, как всегда, довел меня до спальни. Коль скоро я упомянул о лампе, замечу, что кроме той, которую он постоянно носил с собой, других светильников или свечей в его жилище не было в помине. Поэтому, ступив в свою обитель, я тотчас окунался в непроглядный мрак. И все бы ничего, покуда длилась эта долгая усталость: едва укрывшись, я моментально засыпал. Когда ж от полного безделья я стал страдать бессонницей, очередная ночь казалась непереносимой. Собственные спички я перевел давным-давно, и в доме их хранился мизерный запас. Я взял привычку оставлять отпахнутыми ставни, надолго заручаясь мерклым лунным светом. По счастию, луна склонялась низко, и я надеялся на скорую ее поддержку. Так и случилось. В ту ночь луна приветливо мигнула мне косым лучом и тут же скрылась за чернильной тучей. Короткого приветствия хватило, чтобы окрасить комнату размытым призрачным свеченьем.

Советскому читателю предстоит первое знакомство с книгой рассказов известного итальянского прозаика Томмазо Ландольфи. Фантастические события и парадоксальные ситуации, составляющие фон многих рассказов, всепроникающая авторская ирония позволяют писателю с большой силой выразить свое художническое видение мира и показать трагическое одиночество человека перед лицом фашизма (ранние рассказы) и современной буржуазной цивилизации.

Обедневший потомок знатного рода Ренато ди Пескоджантурко-ЛонджиноВведите, осматривая всякий хлам доставшийся ему от далеких предков, нашел меч в дорогих ножнах, украшенных чеканными бляхами…

Томмазо Ландольфи (1908–1979) практически неизвестен в России, хотя в Италии он всегда пользовался и пользуется заслуженной славой и огромной популярностью.Известный итальянский критик Карло Бо, отмечая его талант, неоднократно подчёркивал, что Ландольфи легко, играючи обращается с итальянским языком, делая из него всё, что захочет. Подобное мог себе позволить только Габриэле Д' Аннунцио.
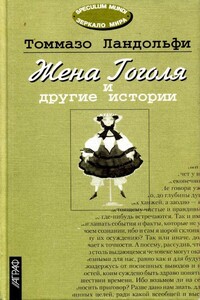
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Томмазо Ландольфи очень талантливый итальянский писатель, но его произведения, как и произведения многих других современных итальянских Авторов, не переводились на русский язык, в связи с отсутствием интереса к Культуре со стороны нынешней нашей Системы.Томмазо Ландольфи известен в Италии также, как переводчик произведений Пушкина.Язык Томмазо Ландольфи — уникален. Его нельзя переводить дословно — получится белиберда. Сюжеты его рассказав практически являются готовыми киносценариями, так как являются остросюжетными и отличаются глубокими философскими мыслями.

Дочь графа, жена сенатора, племянница последнего польского короля Станислава Понятовского, Анна Потоцкая (1779–1867) самим своим происхождением была предназначена для роли, которую она так блистательно играла в польском и французском обществе. Красивая, яркая, умная, отважная, она страстно любила свою несчастную родину и, не теряя надежды на ее возрождение, до конца оставалась преданной Наполеону, с которым не только она эти надежды связывала. Свидетельница великих событий – она жила в Варшаве и Париже – графиня Потоцкая описала их с чисто женским вниманием к значимым, хоть и мелким деталям.

«Мартин Чезлвит» (англ. The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit, часто просто Martin Chuzzlewit) — роман Чарльза Диккенса. Выходил отдельными выпусками в 1843—1844 годах. В книге отразились впечатления автора от поездки в США в 1842 году, во многом негативные. Роман посвящен знакомой Диккенса — миллионерше-благотворительнице Анджеле Бердетт-Куттс. На русский язык «Мартин Чезлвит» был переведен в 1844 году и опубликован в журнале «Отечественные записки». В обзоре русской литературы за 1844 год В. Г. Белинский отметил «необыкновенную зрелость таланта автора», назвав «Мартина Чезлвита» «едва ли не лучшим романом даровитого Диккенса» (В.

«Избранное» классика венгерской литературы Дежё Костолани (1885—1936) составляют произведения о жизни «маленьких людей», на судьбах которых сказался кризис венгерского общества межвоенного периода.

В сборник крупнейшего словацкого писателя-реалиста Иозефа Грегора-Тайовского вошли рассказы 1890–1918 годов о крестьянской жизни, бесправии народа и несправедливости общественного устройства.

«Анекдоты о императоре Павле Первом, самодержце Всероссийском» — книга Евдокима Тыртова, в которой собраны воспоминания современников русского императора о некоторых эпизодах его жизни. Автор указывает, что использовал сочинения иностранных и русских писателей, в которых был изображен Павел Первый, с тем, чтобы собрать воедино все исторические свидетельства об этом великом человеке. В начале книги Тыртов прославляет монархию как единственно верный способ государственного устройства. Далее идет краткий портрет русского самодержца.

В однотомник выдающегося венгерского прозаика Л. Надя (1883—1954) входят роман «Ученик», написанный во время войны и опубликованный в 1945 году, — произведение, пронизанное острой социальной критикой и в значительной мере автобиографическое, как и «Дневник из подвала», относящийся к периоду освобождения Венгрии от фашизма, а также лучшие новеллы.