Осенняя история - [10]
Все книги были в дивных переплетах и с гербовыми знаками. Наудачу я раскрыл одну из них, и тотчас взгляд упал на рваный след от ногтя, пробороздившего обочину страницы напротив Тассова стиха. Стихотворенье было о любви. Попробовал определить, когда оставлен след, ибо чей, как не женский, образ может вызвать царапина возле любовной вирши? Этой отметки довольно было, чтоб возбудить во мне щемящий, нежный трепет. Давно уж женщину я видел только мельком и не вкушал ни женского тепла, ни женской ласки.
На одной из полок, пред частоколом книжных корешков, стоял предмет, немедленно привлекший мое внимание, — лиловая атласная шкатулка с зелеными прожилками. В шкатулке помещалась фарфоровая баночка, похожая на пудреницу, хотя сказать с уверенностью не берусь. Короче, женская безделка, вернувшая меня на миг к моим меланхоличным думам. Словно в ответ на них я вновь почувствовал себя под наблюденьем. Наверное, такое чувство было обычным делом в этом доме. Я оглянулся — никого. И ничего, кроме завешенного тарлатаном портрета на стене. Конечно, я примечал его и раньше, но не задерживал на нем внимания и потому теперь от удивления застыл.
С портрета поясного на созерцателя глядела довольно юная особа. Масляные краски заметно потемнели, но не настолько, чтобы невозможно было рассмотреть детали. Женщина была одета по моде конца прошедшего — начала нынешнего века: шея обхвачена высоким кружевным воротничком, обшито кружевами бархатное платье, на рукавах клубятся буфы, на груди — причудливая крестообразная подвеска из дымчатых топазов, — или breloque, как говорили о ту пору, — свисающая на шелковых блестящих лентах; с плеч ниспадает волнами широкая муаровая шаль. Каштановые волосы уложены вокруг чела тугой спиралью, как стеганая шапочка, а на макушке крошечной короной сверкает дорогая диадема. Изысканные, ясные черты отмечены печатью знатности и благородства с налетом легкого высокомерья, нередко им сопутствующего. Полуприметная округлость щек и подбородка, припухлость маленького рта невольно придавали этому лицу неявственный оттенок детскости.
Особенно живыми и волнующими были ее огромные иссиня-черные глаза. Их глубина казалась мне сродни лишь бездне взгляда старика, а следом и собак. Все та же мрачность оживляла этот взгляд, только у ней — с избытком самовластья; все та же смутная и жалкая растерянность и то же полное отчаянье. В сходстве таилось нечто большее, чем просто узы крови, коль скоро тут соединялись люди и животные. И все-таки: как много говорили сердцу моему и чувствам ее глаза!
Они как будто обладали могучей притягательною силой, сковавшею мой взгляд. Я пробовал себе представить, кем может или могла быть эта женщина. Не знаю почему, решил: она и есть владелица шкатулки, которую я продолжал вертеть в руках. Еще, должно быть, долго я пребывал бы в этом наважденье, когда бы в самом чреве дома вдруг не раздался громкий стук, наверно, опрокинутого стула, — он и вернул меня к реальности. Я вспомнил, что давно не ел, а время подходило к часу. Чего же, собственно, я жду? Хозяин был из тех, кто может предоставить гостя самому себе хоть на весь день, поэтому мне следовало проявлять настойчивость. Но как? Набравшись смелости, я зашагал в поварню, надеясь отыскать там старика, если, конечно, кочан капусты предназначался именно к обеду… На самом деле я хотел понять, что означает этот шум: теперь любая мелочь приобретала для меня особый смысл.
Хозяин был действительно на кухне и раздувал огонь в печи. Собаки восседали рядом и с задранными мордами принюхивались к ароматам простой похлебки, варившейся в кастрюльке. Старик меня окинул безразличным взглядом и продолжал стряпню. И снова я не знал, как поступить. Хотел помочь — в ответ отказ. С явной натугой старик спросил:
— Проголодались? — И добавил: — Скоро.
Призвав на помощь всю свою любезность, я протянул ему двух куропаток. Он искоса взглянул на них, вначале с жадностью, затем с брезгливостью, и молвил холодно:
— А приготовить сможете?
Беседа, столь удачно завязавшись, на том, однако, и оборвалась. В итоге я превратился в заправскую кухарку и ощипал свою добычу, но более на этом поприще не преуспел — ведь из продуктов, для жарева пригодных, на кухне отыскалось лишь полбутыли масла, к тому ж прогорклого.
Нигде в поварне я стула не нашел. Но ведь хозяин мог опрокинуть стул в одной из смежных комнат?
Глава седьмая
Подробный пересказ моих попыток сойтись накоротке со стариком, последним неизменно отклоняемых, пожалуй, затянулся бы до бесконечности. Достаточно сказать, что так или иначе я навязал ему свое присутствие. При этом я не мог пожаловаться на недостаток прозрачнейших намеков, а иногда и недвусмысленных призывов покинуть дом. Однако я оставлял их без внимания. Так, продолжая испытывать терпенье старика, я худо-бедно прожил у него еще дня три. Далее я изложу итоги моих настойчивых расспросов, ибо, как ни увиливал хозяин, моя настырность взяла свое, и кое-что я все же сведал.
Скажу попутно, что погода опять испортилась. Упрямый дождь или губительная сырость (которую недаром окрестили в тех местах «заразой») почти не позволяли выходить из дома. Непродолжительные вылазки в округу я совершал лишь изредка, да так чтобы меня не изловил шальной дозор. Все это вынуждало старика, если учесть его упрямое желанье доглядывать за мною всякий миг, волей-неволей составлять мне частую компанию. В один из этих дней нас даже подарило снегом, подбитой невесомым пухом изморозью, сплошь убелившей горы на несколько часов. Внутри жилища сквозь расшатанные ставни мятежный ветер завывал на все лады, взрываясь иногда отчаянными вскриками. Как в бешеном припадке, он метался от стены к стене, пронизывая дом до самых недр, и вылетал через каминную трубу, раскатисто и непрестанно рокоча. Разбитым мною стеклам мы подыскали хилую замену из досок; прерывая световой поток, они, однако, не мешали просачиваться в дом туману. Лениво затекая внутрь, он повисал размытой взвесью меж отсырелых стен и пробирал нас до костей жестоким холодом. Чтобы не окоченеть, мы днями напролет поддерживали в камине большой огонь, дрова и сучья для которого я собирал собственноручно (а также норовил участвовать и в прочих хлопотах по дому).

Советскому читателю предстоит первое знакомство с книгой рассказов известного итальянского прозаика Томмазо Ландольфи. Фантастические события и парадоксальные ситуации, составляющие фон многих рассказов, всепроникающая авторская ирония позволяют писателю с большой силой выразить свое художническое видение мира и показать трагическое одиночество человека перед лицом фашизма (ранние рассказы) и современной буржуазной цивилизации.

Обедневший потомок знатного рода Ренато ди Пескоджантурко-ЛонджиноВведите, осматривая всякий хлам доставшийся ему от далеких предков, нашел меч в дорогих ножнах, украшенных чеканными бляхами…

Томмазо Ландольфи (1908–1979) практически неизвестен в России, хотя в Италии он всегда пользовался и пользуется заслуженной славой и огромной популярностью.Известный итальянский критик Карло Бо, отмечая его талант, неоднократно подчёркивал, что Ландольфи легко, играючи обращается с итальянским языком, делая из него всё, что захочет. Подобное мог себе позволить только Габриэле Д' Аннунцио.
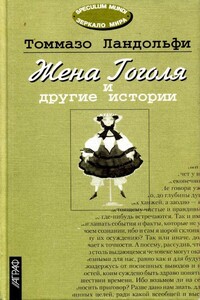
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Томмазо Ландольфи очень талантливый итальянский писатель, но его произведения, как и произведения многих других современных итальянских Авторов, не переводились на русский язык, в связи с отсутствием интереса к Культуре со стороны нынешней нашей Системы.Томмазо Ландольфи известен в Италии также, как переводчик произведений Пушкина.Язык Томмазо Ландольфи — уникален. Его нельзя переводить дословно — получится белиберда. Сюжеты его рассказав практически являются готовыми киносценариями, так как являются остросюжетными и отличаются глубокими философскими мыслями.

В сборник крупнейшего словацкого писателя-реалиста Иозефа Грегора-Тайовского вошли рассказы 1890–1918 годов о крестьянской жизни, бесправии народа и несправедливости общественного устройства.
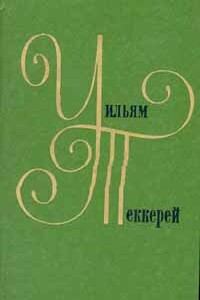
Что нужно для того, чтобы сделать быструю карьеру и приобрести себе вес в обществе? Совсем немногое: в нужное время и в нужном месте у намекнуть о своем знатном родственнике, показав предмет его милости к вам. Как раз это и произошло с героем повести, хотя сам он и не помышлял поначалу об этом. .
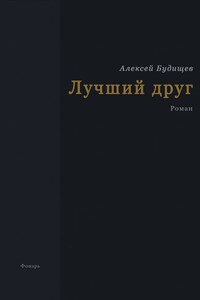
Алексей Николаевич Будищев (1867-1916) — русский писатель, поэт, драматург, публицист. Роман «Лучший друг». 1901 г. Электронная версия книги подготовлена журналом Фонарь.

«Анекдоты о императоре Павле Первом, самодержце Всероссийском» — книга Евдокима Тыртова, в которой собраны воспоминания современников русского императора о некоторых эпизодах его жизни. Автор указывает, что использовал сочинения иностранных и русских писателей, в которых был изображен Павел Первый, с тем, чтобы собрать воедино все исторические свидетельства об этом великом человеке. В начале книги Тыртов прославляет монархию как единственно верный способ государственного устройства. Далее идет краткий портрет русского самодержца.

В однотомник выдающегося венгерского прозаика Л. Надя (1883—1954) входят роман «Ученик», написанный во время войны и опубликованный в 1945 году, — произведение, пронизанное острой социальной критикой и в значительной мере автобиографическое, как и «Дневник из подвала», относящийся к периоду освобождения Венгрии от фашизма, а также лучшие новеллы.

Жил на свете дурной мальчик, которого звали Джим. С ним все происходило не так, как обычно происходит с дурными мальчиками в книжках для воскресных школ. Джим этот был словно заговоренный, — только так и можно объяснить то, что ему все сходило с рук.