Орест Кипренский - [3]
Портрет графини Екатерины Петровны Ростопчиной. 1809.
Государственная Третьяковская галерея, Москва
1809-1812. Москва, Тверь. Успех
Определением Совета Академии от 27 февраля 1809 года Кипренский командировался в Москву. Единственными документальными свидетельствами о его пребывании там являются упоминания о нем в письмах графа Ф.В. Ростопчина. Федор Васильевич Ростопчин (1763-1826) начал свою карьеру при Екатерине, при восшествии на престол Павла I стал одним из влиятельнейших вельмож. Но за месяц до гибели Павла последовала отставка, и Ростопчин поселился в Москве как частное лицо. Совсем еще не старый человек, он вошел в круг тех отставных екатерининских вельмож, которые всем своим существованием воплощали дух своеобразной оппозиционности и независимости. Именно они придавали Москве начала XIX века своеобразную физиономию вельможнобарственного, сибаритского «фрондерства» в сочетании с чудаковатостью. В 1810 году Александр I пожаловал Ростопчина званием обер-камергера своего двора, но тот продолжал жить в Москве. В 1812 году Ростопчин был назначен главнокомандующим Москвы и на этом посту вошел в анналы истории.
Портрет князя Ивана Алексеевича Гагарина. 1811
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Портрет графа Федора Васильевича Ростопчина. 1809
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Портреты Ростопчиных - это подчеркнуто домашние портреты, Ростопчин изображен без орденских знаков. Простота композиционного сочинения граничит с аскетичностью. Художник избегает картинной эффектности ради сосредоточенного созерцания. Парность портретов утверждается традиционным приемом композиционной зеркальности в обращенности друг другу. Но интересно, как тонко дифференцировано художником психологическое состояние изображенных: оба они, как видно, застигнуты в момент, когда в непринужденной беседе возникает пауза, о которой говорится: «тихий ангел пролетел». И именно этой одинаковостью момента обнаруживается индивидуальность, то, как неодинаково переживается ими это событие, как по-разному в каждом из супругов происходит это причащение к одновременно объединяющему и разъединяющему молчанию.
Екатерина Петровна Ростопчина (1775-1859) была под стать своему мужу в своеобычности характера и индивидуальности.
Портрет лейб-гусарского полковника Евграфа Владимировича Давыдова. 1809
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Современники отмечали прекрасное образование Ростопчиной: она знала несколько языков, в том числе латынь и греческий. Не любила светских удовольствий; будучи с шестнадцати лет фрейлиной, она скучала и мало танцевала на придворных балах. В 1794 году вышла замуж за Ростопчина. Для своих детей Екатерина Петровна составила краткую российскую историю и географию, и ее супруг отмечал в одном из писем, что они ясно и хорошо написаны. Но у нее была еще одна забота - религия. В Ростопчиной, воспитанной в вольтерьянский век, при ее серьезности и интересам к духовной сфере религиозное вольнодумство причудливо соединилось с религиозным мистицизмом. Она легко стала добычей иезуитов, тайно перейдя в католическую веру. Разумеется, семейное согласие было нарушено - положение главнокомандующего первопрестольной при жене католичке было не совсем удобным. В старости Ростопчина, устраненная мужем от воспитания сына Андрея, жила затворницей в Москве или подмосковном имении Вороново. Едва ли Кипренский мог знать обо всех этих обстоятельствах, и все же в портрете Ростопчиной художником угадана эта ее склонность к мистической экзальтации.
Портрет Василия Денисовича Давыдова. 1809. Рисунок
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Портрет Алексея Владимировича Давыдова. 1809. Рисунок
Государственный музей А.С. Пушкина, Москва
Портрет лейб-гусарского полковника Евграфа Владимировича Давыдова (1809) - из ряда шедевров мастера. Здесь очевидна новизна портретной концепции Кипренского, отличающая все его работы от произведений живописцев XVIII века. Художник берет любимый и богато разработанный XVIII веком тип так называемого парадного портрета и расставляет свои акценты. Непременный для парадного портрета момент торжественного предстояния преображен в ситуацию одинокого ожидания; поза и очерк фигуры выдают выправку и стать человека, привыкшего ловить восторженные взгляды: он словно покрыт «глянцем обожания», которым пользовалось военное сословие в эпоху наполеоновских войн. В полумрак ночного уединения как бы привнесена атмосфера бала, но герой предается мечтам и прихотливому течению своих мыслей. Как никто, Кипренский умел писать обращенный внутрь взгляд человека, словно прислушивающегося к чему-то внутри себя. Рассматривание этой по-своему элегантной картины позволяет живее, чем исторические комментарии, понять, как в тех людях были поразительно сплавлены военная доблесть, светское изящество и «дум высокое стремленье».
Высоко оцененный современниками и хорошо им известный, этот портрет сделался жертвой музейного недоразумения: уже после смерти автора портрета было забыто имя изображенного, и целое столетие в нем видели изображение поэта-партизана Дениса Давыдова. Сравнительно недавно было установлено, что в 1809 году в гвардейском гусарском полку только Евграф Давыдов был полковником, а Денис был в меньшем чине. Надо сказать, что как военный герой Евграф Владимирович был прославлен не меньше своего двоюродного брата Дениса Васильевича. Он был участником многих драматических эпизодов наполеоновской эпопеи, начиная с трагического Аустерлица, вплоть до грандиозной «битвы народов» под Лейпцигом в 1813 году, откуда он вышел с тяжелейшими увечьями.
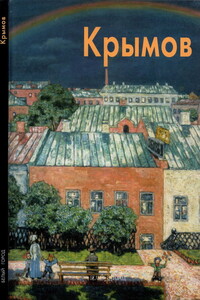
История искусства знает много примеров, когда в совсем, казалось бы, «нехудожественных» семьях вырастали знаменитые художники. Такими были сын суворовского солдата Павел Федотов, Илья Репин, вышедший из семьи военного поселенца, или потомок вольнолюбивых казаков Василий Суриков. Но существуют и обратные примеры, когда художественная атмосфера дома позволяет рано раскрыться способностям ребенка. Именно в таких семьях выросли Сильвестр Щедрин, Александр Иванов, Карл Брюллов, Александр Бенуа. Николай Крымов был правнуком, сыном, братом и даже зятем художников.
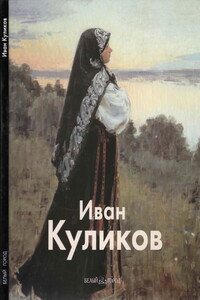
Среди множества учеников великого русского художника Ильи Ефимовича Репина одним из достойных его последователей был Иван Куликов. Творческий путь Куликова был типичным для художественной молодежи конца XIX - начала XX столетия. В его творчестве нашли свое отражение сложные социальные перемены в общественной жизни, в свободе эстетических взглядов, в переоценке пути исторического развития России.
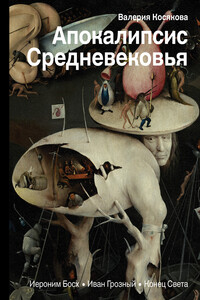
Эта книга рассказывает о важнейшей, особенно в средневековую эпоху, категории – о Конце света, об ожидании Конца света. Главный герой этой книги, как и основной её образ, – Апокалипсис. Однако что такое Апокалипсис? Как он возник? Каковы его истоки? Почему образ тотального краха стал столь вездесущ и даже привлекателен? Что общего между Откровением Иоанна Богослова, картинами Иеронима Босха и зловещей деятельностью Ивана Грозного? Обращение к трём персонажам, остающимся знаковыми и ныне, позволяет увидеть эволюцию средневековой идеи фикс, одержимости представлением о Конце света.
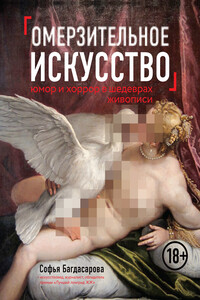
Омерзительное искусство — это новый взгляд на классическое мировое искусство, покорившее весь мир. Софья Багдасарова — нетривиальный персонаж в мире искусства, а также обладатель премии «Лучший ЖЖ блог» 2017 года. Знаменитые сюжеты мифологии, рассказанные с такими подробностями, что поневоле все время хватаешься за сердце и Уголовный кодекс! Да, в детстве мы такого про героев и богов точно не читали… Людоеды, сексуальные фетишисты и убийцы: оказывается, именно они — персонажи шедевров, наполняющих залы музеев мира.
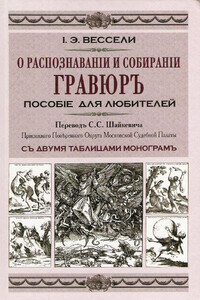
В книгу И.Э. Вессели вошли обширнейшие сведения по истории создания гравюр и литографий. Автор дает советы по хранению, каталогизации, оценке и определению подлинности гравюр. Приводит подробные данные об офортах и ксилографии, о бумаге и бумажных (водяных) знаках, издательских каталогах и личных знаках коллекционеров. Книга будет полезна как начинающим, так и опытным собирателям. Печатается по изданию 1882 года.
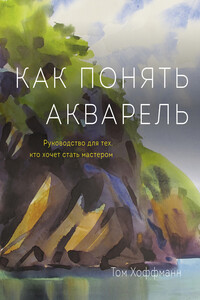
В книге «Как понять акварель» известный художник и опытный преподаватель Том Хоффманн раскрывает тайны акварельной живописи. Автор делится профессиональными хитростями, подробно освещая взаимосвязь между цветом, тоном, влажностью и композицией. Это пособие поможет и новичкам, и опытным художникам усовершенствовать свою технику и найти баланс между осторожностью и риском. Ведь именно это – самые важные навыки акварелиста и признак мастерства. На русском языке публикуется впервые.