Опыт познания природы jukebox - [3]
Путь автобуса от Бургоса до Сории шел на восток, пересекая почти безлюдную Месету. Казалось, что, несмотря на многие свободные места, в автобусе собралось гораздо больше народу, чем попадалось его там, за окном, на этом лысом плоскогорье. Небо было серым и пасмурным, редкие поля между скалами или сплошными пластами рыжей глины лежали невозделанными. Молоденькая девушка в автобусе щелкала семечки, как обычно это делают во всех испанских кинотеатрах или во время прогулки, с серьезным выражением лица и мечтательно распахнутыми глазами, не останавливаясь ни на минуту, шелуха сыпалась непрерывным дождем; группа молодых парней со спортивными сумками все время подносила водителю в кабину новые кассеты со своей музыкой, а тот охотно запускал их вместо послеполуденной радиопрограммы, в динамики, закрепленные над каждой парой кресел; единственная пожилая пара в автобусе сидела не произнося ни слова и не двигаясь, а мужчина, казалось, даже не замечал, когда кто-либо из парней каждый раз, проходя мимо, неумышленно толкал его; даже когда один из юношей вскочил, громко заговорив, вышел в проход и облокотился, что-то энергично объясняя, на спинку сиденья старика и принялся жестикулировать прямо у него под носом, тот терпел не шевелясь, даже не отвел в сторону газету, края которой заворачивались от сильного движения воздуха, создаваемого размахивающим руками парнем. Вышедшая из автобуса девушка уже шла в полном одиночестве по голой макушке холма, закутавшись в плащ, по бездорожью степи, где не было ни единого дома на горизонте; на полу под ее сиденьем осталась горстка шелухи от семечек, на удивление куда меньшая, чем можно было ожидать. Чуть позже на высокогорном плато замелькали светлые дубовые рощицы, деревья казались маленькими, ростом с кустарник, густая увядшая листва приняла серый цвет и дрожала на ветру, а после одного неприметного перевала — в испанском, как узнал путешественник из своего карманного словарика, то же слово означало еще и «гавань», — служившего границей между провинциями Бургос и Сория и защищенного с обеих сторон стволами поблескивающих рыжиной сосен, зацепившихся корнями за скалистую верхушку (многие из них стояли как после сильной бури, наполовину вывороченными из небольшой полоски земли и даже расщепленными надвое), пространство снова раздвинулось, ибо даже и эта «защита» дороги вскоре исчезла, уступив место повсюду доминирующей степной пустоши. Через какие-то промежутки пути дорогу перерезали рельсы, заметно заржавевшие — следы заброшенной ветки между двумя городами, местами уже залитой гудроном, шпалы заросли травой или вовсе скрылись под наслоением земли и песка. В одной из деревень, невидимой со стороны проселочной дороги из-за каменистых отрогов гор, которые автобус, петляя, все время объезжал, высаживая пассажиров и становясь все более пустым, и вынужденно возвращаясь назад, чтобы наконец-то попасть в нее, криво висевшая табличка с названием переулка непрестанно била на ветру в стену дома, на котором была укреплена; в окне деревенского бара он не увидел ничего, кроме жестикулирующих рук картежников.
В Сории было холодно — еще холоднее, чем в Бургосе; а по сравнению с морским курортом Сан-Себастьяном, где он накануне вступил на испанскую землю, здесь стоял просто собачий холод. Но снег, на который он рассчитывал здесь как на явление природы, сопровождающее задуманную им авантюру, с неба не падал, вместо него моросил холодный дождь. На продуваемой всеми ветрами автобусной станции он тут же списал себе расписание рейсов на Мадрид или по крайней мере на Сарагосу. Выйдя на транзитную дорогу на окраине города, он оказался между маленькими, приготовившимися завалиться домишками, возводимыми рядом с ними новостройками в лесах и заваленным щебнем и мусором пустырем (обычно импонировавшим ему), среди шума и рева вереницы груженых контейнеров, словно привязанных друг к другу одной веревочкой, из-под колес которых летели брызги и комья жирной дорожной грязи; у всех машин были сплошь испанские номера, когда же он вдруг увидел среди них английский номерной знак, а за ним и понятный с первого же взгляда, но абсолютно непереводимый сленг — рекламу на брезенте, на душе у него стало тепло, и он почувствовал себя на какой-то момент словно дома. Нечто подобное он уже однажды испытал еще раньше во время своего длительного пребывания в чужом испанском городке, где никто вокруг не понимал ни слова на другом языке и где не было ни одной иностранной газеты, тогда он искал для себя иногда убежище в китайском ресторанчике, где еще меньше понимал язык, но чувствовал себя там странным образом как бы защищенным от плотно обложившего его со всех сторон испанского.
Начало смеркаться, контуры предметов стали расплываться. На дорожных указателях можно было прочесть только обозначение направления на дальние крупные города, такие, как Барселона и Вальядолид. Так он и шел, теперь уже довольно долго, с тяжелым чемоданом вниз по улице, подумывая о том, что, пожалуй, останется в Сории до наступления Нового года; он уже не раз сталкивался с тем, что центры именно таких, на первый взгляд, можно сказать, испанских городов-невидимок находились где-то далеко внизу, скрывшись за безлюдными районами, почти без признаков жилья, запрятавшись в долины, расположенные вдоль берегов иссякших рек. Эту ночь, во всяком случае, он проведет здесь; и он тут же устыдился сам себя: получается, будто он хотел, находясь уже здесь, все же удостовериться, что город действительно существует, и вроде бы отдать ему должное (в этот момент, когда он, перекладывая через каждую пару шагов чемодан из одной руки в другую, старательно пытался увернуться от столкновения со спешащими навстречу местными жителями, уже начавшими свой вечерний марафон по исхоженной прямой, он потерпел неудачу), а кроме того, что касалось его «Опыта познания природы jukebox» и вообще отведенного им на то времени, он опять принялся внушать себе — как уже частенько раньше, — неоднократно повторяя одно и то же, а сейчас прибегая даже к греческому слову, почерпнутому при чтении из книги Теофраста, что все это «s-cho-lazo, s-cho-lazo»

Одна из самых щемящих повестей лауреата Нобелевской премии о женском самоопределении и борьбе с угрожающей безликостью. В один обычный зимний день тридцатилетняя Марианна, примерная жена, мать и домохозяйка, неожиданно для самой себя решает расстаться с мужем, только что вернувшимся из длительной командировки. При внешнем благополучии их семейная идиллия – унылая иллюзия, их дом – съемная «жилая ячейка» с «жутковато-зловещей» атмосферой, их отношения – неизбывное одиночество вдвоем. И теперь этой «женщине-левше» – наивной, неловкой, неприспособленной – предстоит уйти с «правого» и понятного пути и обрести наконец индивидуальность.

«Эта история началась в один из тех дней разгара лета, когда ты первый раз в году идешь босиком по траве и тебя жалит пчела». Именно это стало для героя знаком того, что пора отправляться в путь на поиски. Он ищет женщину, которую зовет воровкой фруктов. Следом за ней он, а значит, и мы, отправляемся в Вексен. На поезде промчав сквозь Париж, вдоль рек и равнин, по обочинам дорог, встречая случайных и неслучайных людей, познавая новое, мы открываем главного героя с разных сторон. Хандке умеет превратить любое обыденное действие – слово, мысль, наблюдение – в поистине грандиозный эпос.

Петер Хандке – лауреат Нобелевской премии по литературе 2019 года, участник «группы 47», прозаик, драматург, сценарист, один из важнейших немецкоязычных писателей послевоенного времени. Тексты Хандке славятся уникальными лингвистическими решениями и насыщенным языком. Они о мире, о жизни, о нахождении в моменте и наслаждении им. Под обложкой этой книги собраны четыре повести: «Медленное возвращение домой», «Уроки горы Сен-Виктуар», «Детская история», «По деревням». Живописное и кинематографичное повествование откроет вам целый мир, придуманный настоящим художником и очень талантливым писателем.НОБЕЛЕВСКИЙ КОМИТЕТ: «За весомые произведения, в которых, мастерски используя возможности языка, Хандке исследует периферию и особенность человеческого опыта».

Бывший вратарь Йозеф Блох, бесцельно слоняясь по Вене, знакомится с кассиршей кинотеатра, остается у нее на ночь, а утром душит ее. После этого Джозеф бежит в маленький городок, где его бывшая подружка содержит большую гостиницу. И там, затаившись, через полицейские сводки, публикуемые в газетах, он следит за происходящим, понимая, что его преследователи все ближе и ближе...Это не шедевр, но прекрасная повесть о вратаре, пропустившем гол. Гол, который дал трещину в его жизни.

Петер Хандке предлагает свою ни с чем не сравнимую версию истории величайшего покорителя женских сердец. Перед нами не демонический обольститель, не дуэлянт, не обманщик, а вечный странник. На своем пути Дон Жуан встречает разных женщин, но неизменно одно — именно они хотят его обольстить.Проза Хандке невероятно глубока, изящна, поэтична, пронизана тонким юмором и иронией.

В австрийской литературе новелла не эрзац большой прозы и не проявление беспомощности; она имеет классическую родословную. «Бедный музыкант» Фр. Грильпарцера — родоначальник того повествовательного искусства, которое, не обладая большим дыханием, необходимым для социального романа, в силах раскрыть в индивидуальном «случае» внеиндивидуальное содержание.В этом смысле рассказы, собранные в настоящей книге, могут дать русскому читателю представление о том духовном климате, который преобладал среди писателей Австрии середины XX века.
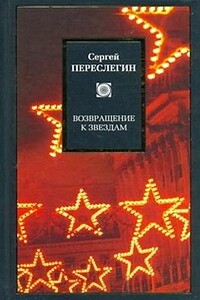
В настоящей книге рассматривается объединенное пространство фантастической литературы и футурологических изысканий с целью поиска в литературных произведениях ростков, локусов формирующегося Будущего. Можно смело предположить, что одной из мер качества литературного произведения в таком видении становится его инновационность, способность привнести новое в традиционное литературное пространство. Значимыми оказываются литературные тексты, из которых прорастает Будущее, его реалии, герои, накал страстей.

В книгу известного российского ученого Т. П. Григорьевой вошли ее работы разных лет в обновленном виде. Автор ставит перед собой задачу показать, как соотносятся западное и восточное знание, опиравшиеся на разные мировоззренческие постулаты.Причина успеха китайской цивилизации – в ее опоре на традицию, насчитывающую не одно тысячелетие. В ее основе лежит И цзин – «Книга Перемен». Мудрость древних позволила избежать односторонности, признать путем к Гармонии Равновесие, а не борьбу.В книге поднимаются вопросы о соотношении нового типа западной науки – синергетики – и важнейшего понятия восточной традиции – Дао; о причинах взлета китайской цивилизации и отсутствия этого взлета в России; о понятии подлинного Всечеловека и западном антропоцентризме…

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

Историки Доминик и Жанин Сурдель выделяют в исламской цивилизации классический период, начинающийся с 622 г. — со времени проповеди Мухаммада и завершающийся XIII веком, эпохой распада великой исламской империи, раскинувшейся некогда от Испании до Индии с запада на восток и от черной Африки до Черного и Каспийского морей с юга на север. Эта великая империя рассматривается авторами книги, во-первых, в ее политическом, религиозно-социальном, экономическом и культурном аспектах, во-вторых, в аспекте ее внутреннего единства и многообразия и, в-третьих, как цивилизация глубоко своеобразная, противостоящая цивилизации Запада, но связанная с ней общим историко-культурным контекстом.Книга рассчитана на специалистов и широкий круг читателей.

Увлекательный экскурс известного ученого Эдуарда Паркера в историю кочевых племен Восточной Азии познакомит вас с происхождением, формированием и эволюцией конгломерата, сложившегося в результате сложных и противоречивых исторических процессов. В этой уникальной книге повествуется о быте, традициях и социальной структуре татарского народа, прослеживаются династические связи правящей верхушки, рассказывается о кровопролитных сражениях и создании кочевых империй.
