Опыт познания природы jukebox - [15]
В последовавшие за этим годы jukebox утратил для него свою магическую силу: пожалуй, в меньшей степени из-за того, что он чаще слушал музыку в квартире, и уж точно не оттого, что стал старше, а потому — так ему, во всяком случае, представлялось, и он хотел себя в этом убедить, приступая к работе над «Опытом», — что жил теперь за границей. Само собой разумеется, он всегда тут же бросал монетку, как только оказывался — в Дюссельдорфе, Амстердаме, Кокфостерсе, Санта-Тереза-Галлуре — перед одним из услужливо бормочущих и играющих там радужными цветами «духов дома», но скорее уже по привычке или устоявшейся традиции, и слушал их теперь всегда только вполуха. Однако смысл и значение jukebox мгновенно возвращались к нему во время всех его эпизодических остановок в тех местах, которые он, собственно, должен считать для себя родными. В таких, где для одних самый первый путь возвращения домой начинается с дороги «на кладбище», «к озеру» или в «заветный кабачок», а для него, зачастую прямо с автобусной остановки, нередко прямиком к джукбоксу, и только после того, как музыкальный автомат, основательно «прогромыхав» через его душу, можно сказать, отуплял его, он отправлялся (в надежде, что будет после этого меньше чувствовать себя здесь чужим и оттого ощущать неловкость) по остальным, привычным для него маршрутам.
И все же стоит рассказать о музыкальных автоматах за границей, которые не просто проигрывали пластинки, но и сыграли свою роль, оказавшись в центре немаловажных для него событий. И каждый раз это случалось, какая бы заграница то ни была, непосредственно на самой границе — там, где кончался привычный и знакомый мир. Пусть Америка является, так сказать, «родиной jukebox», однако там ему не запомнился ни один музыкальный автомат, который вызвал бы в нем ответные чувства, — это случалось, и притом не раз, только на Аляске. А тогда возникал вопрос: была ли для него Аляска «Соединенными Штатами»? Однажды в сочельник он прибыл в Анкоридж и после Рождественской мессы, где перед входом в маленькую деревянную церквушку среди незнакомых людей, включая его самого, царило редкостное и радостное веселье, пошел еще в бар. В сумеречности зала и хаотичном брожении подвыпивших людей он увидел неподвижно стоявшую перед сияющим jukebox одинокую женскую фигуру — индианка. Она повернулась к нему — крупное, гордое, чуть насмешливое лицо, — и это был единственный раз в его жизни, когда он танцевал с кем-то под буханье джукбокса. И даже те, кто привычно искал, с кем бы тут помериться силами, отступили, давая им место, словно эта женщина — молодая или скорее вообще не имеющая возраста, есть такой тип женщин, — была здесь главной персоной. Позднее они ушли вместе через заднюю дверь, где на заледенелом дворе стоял ее фургон, предназначенный для дальних передвижений по Аляске, на боковых окнах — контуры северных сосен на берегах пустынного озера; шел снег. Не прижимаясь и не прикасаясь к нему, за исключением легких мимолетных касаний в танце, она позвала его пойти за ней; вместе с родителями она занималась рыболовством в деревне, расположенной по ту сторону залива Кука. И в этот момент ему стало ясно, что в его жизни, возможно, наметилось наконец решение, принятое не только им одним, но и еще кем-то: он тут же представил, что отправится с этой чужой женщиной туда, на другую сторону границы, в снежную пургу, притом совершенно серьезно, навсегда, не помышляя о возвращении, и даже откажется от своего имени, от рода своих занятий, от всех своих индивидуальных привычек; вот эти глаза, то далекое место по ту сторону привычного мира, так часто мерещившееся ему, — это был момент, в какой Парсифаль стоял перед спасительным разрешением вопроса. А он? И он перед таким же ожидаемым от него «да». И как Парсифаль, и не потому что был не уверен — он все ясно представлял себе, — а потому что так уж он был устроен, и это вошло в его плоть и кровь, он медлил, и уже в следующий миг вся картина и сама женщина буквально исчезли в снежной ночи. Все последующие вечера он снова и снова заходил в бар, ждал ее, стоя возле jukebox, спрашивал и расспрашивал о ней, но, хотя многие помнили ее, никто не мог сказать, где ее найти. Целое десятилетие спустя это воспоминание, оно все еще жило в нем, толкнуло его на то, чтобы на обратном пути из Японии специально простоять полдня за американской визой и потом действительно выйти из самолета в снова по-зимнему темном Анкоридже и несколько дней бродить вдоль и поперек по занесенному снегом городу, к свежему и чистому воздуху и далеким горизонтам которого так прикипело его сердце. Но даже и на Аляску проникла за это время новая ресторанная мода, и тот «saloon» превратился уже в более респектабельное «бистро», с соответствующим меню конечно, и демонстрировал рост престижа — солидность, не терпящая, и так было не только в Анкоридже, рядом со светлой и облегченной меблировкой никаких громоздких и старомодных музыкальных автоматов. Однако доказательством былого присутствия jukebox стали вывалившиеся на тротуар из длинного, как кишка, барака и появившиеся там же из-за угла шатающиеся фигуры — всех рас, — а чуть дальше, промеж льдин, в окружении патруля полицейских лежал кто-то, пытавшийся отбиться от них — оказалось, белый, — ничком и на животе, плечи заведены назад, согнутые ноги стянуты ремнями, руки на спине и в наручниках, скрюченный на льду, став похожим на салазки, его и протащили потом по снегу, как салазки, до стоящей позади полицейской машины и увезли куда-то; а внутри барака степенно приветствовал входящего, сразу же у входа, возле стойки, на которой лежали головы пьяных и слюнявых, со следами блевотины на губах спящих людей (мужчин и женщин, в основном эскимосов), классический и, казалось, заполнявший собой всю кишку музыкальный автомат с соответствующим репертуаром допотопных пластинок — можно было с уверенностью рассчитывать, что здесь найдутся все singles

«Эта история началась в один из тех дней разгара лета, когда ты первый раз в году идешь босиком по траве и тебя жалит пчела». Именно это стало для героя знаком того, что пора отправляться в путь на поиски. Он ищет женщину, которую зовет воровкой фруктов. Следом за ней он, а значит, и мы, отправляемся в Вексен. На поезде промчав сквозь Париж, вдоль рек и равнин, по обочинам дорог, встречая случайных и неслучайных людей, познавая новое, мы открываем главного героя с разных сторон. Хандке умеет превратить любое обыденное действие – слово, мысль, наблюдение – в поистине грандиозный эпос.

Одна из самых щемящих повестей лауреата Нобелевской премии о женском самоопределении и борьбе с угрожающей безликостью. В один обычный зимний день тридцатилетняя Марианна, примерная жена, мать и домохозяйка, неожиданно для самой себя решает расстаться с мужем, только что вернувшимся из длительной командировки. При внешнем благополучии их семейная идиллия – унылая иллюзия, их дом – съемная «жилая ячейка» с «жутковато-зловещей» атмосферой, их отношения – неизбывное одиночество вдвоем. И теперь этой «женщине-левше» – наивной, неловкой, неприспособленной – предстоит уйти с «правого» и понятного пути и обрести наконец индивидуальность.

Петер Хандке – лауреат Нобелевской премии по литературе 2019 года, участник «группы 47», прозаик, драматург, сценарист, один из важнейших немецкоязычных писателей послевоенного времени. Тексты Хандке славятся уникальными лингвистическими решениями и насыщенным языком. Они о мире, о жизни, о нахождении в моменте и наслаждении им. Под обложкой этой книги собраны четыре повести: «Медленное возвращение домой», «Уроки горы Сен-Виктуар», «Детская история», «По деревням». Живописное и кинематографичное повествование откроет вам целый мир, придуманный настоящим художником и очень талантливым писателем.НОБЕЛЕВСКИЙ КОМИТЕТ: «За весомые произведения, в которых, мастерски используя возможности языка, Хандке исследует периферию и особенность человеческого опыта».

Бывший вратарь Йозеф Блох, бесцельно слоняясь по Вене, знакомится с кассиршей кинотеатра, остается у нее на ночь, а утром душит ее. После этого Джозеф бежит в маленький городок, где его бывшая подружка содержит большую гостиницу. И там, затаившись, через полицейские сводки, публикуемые в газетах, он следит за происходящим, понимая, что его преследователи все ближе и ближе...Это не шедевр, но прекрасная повесть о вратаре, пропустившем гол. Гол, который дал трещину в его жизни.

Петер Хандке предлагает свою ни с чем не сравнимую версию истории величайшего покорителя женских сердец. Перед нами не демонический обольститель, не дуэлянт, не обманщик, а вечный странник. На своем пути Дон Жуан встречает разных женщин, но неизменно одно — именно они хотят его обольстить.Проза Хандке невероятно глубока, изящна, поэтична, пронизана тонким юмором и иронией.

В австрийской литературе новелла не эрзац большой прозы и не проявление беспомощности; она имеет классическую родословную. «Бедный музыкант» Фр. Грильпарцера — родоначальник того повествовательного искусства, которое, не обладая большим дыханием, необходимым для социального романа, в силах раскрыть в индивидуальном «случае» внеиндивидуальное содержание.В этом смысле рассказы, собранные в настоящей книге, могут дать русскому читателю представление о том духовном климате, который преобладал среди писателей Австрии середины XX века.
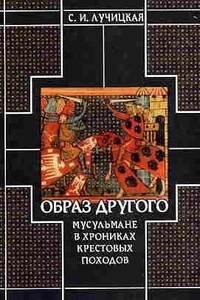
Книга посвящена исследованию исторической, литературной и иконографической традициям изображения мусульман в эпоху крестовых походов. В ней выявляются общие для этих традиций знаки инаковости и изучается эволюция представлений о мусульманах в течение XII–XIII вв. Особое внимание уделяется нарративным приемам, с помощью которых средневековые авторы создают образ Другого. Le present livre est consacré à l'analyse des traditions historique, littéraire et iconographique qui ont participé à la formation de l’image des musulmans à l’époque des croisades.
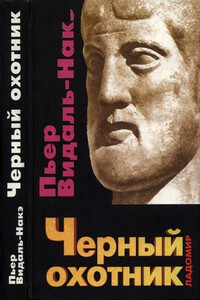
Пьер Видаль-Накэ (род. в 1930 г.) - один из самых крупных французских историков, автор свыше двадцати книг по античной и современной истории. Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`. В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей.
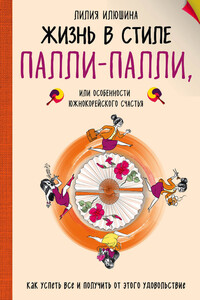
«Палли-палли» переводится с корейского как «Быстро-быстро» или «Давай-давай!», «Поторапливайся!», «Не тормози!», «Come on!». Жители Южной Кореи не только самые активные охотники за трендами, при этом они еще умеют по-настоящему наслаждаться жизнью: получая удовольствие от еды, восхищаясь красотой и… относясь ко всему с иронией. И еще Корея находится в топе стран с самой высокой продолжительностью жизни. Одним словом, у этих ребят, полных бодрости духа и поразительных традиций, есть чему поучиться. Психолог Лилия Илюшина, которая прожила в Южной Корее не один год, не только описывает особенности корейского характера, но и предлагает читателю использовать полезный опыт на практике.
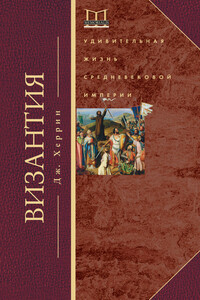
Уникальная книга профессора лондонского Королевского колледжа Джудит Херрин посвящена тысячелетней истории Восточной Римской империи – от основания Константинополя до его захвата турками-османами в 1453 году. Авторитетный исследователь предлагает новый взгляд на противостояние Византийской империи и Западного мира, раскол христианской церкви и причины падения империи. Яркими красками автор рисует портреты императоров и императриц, военных узурпаторов и духовных лидеров, талантливых ученых и знаменитых куртизанок.

В книге исследуются дорожные обычаи и обряды, поверья и обереги, связанные с мифологическими представлениями русских и других народов России, особенности перемещений по дорогам России XVIII – начала XX в. Привлекаются малоизвестные этнографические, фольклорные, исторические, литературно-публицистические и мемуарные источники, которые рассмотрены в историко-бытовом и культурно-антропологическом аспектах.Книга адресована специалистам и студентам гуманитарных факультетов высших учебных заведений и всем, кто интересуется историей повседневности и традиционной культурой народов России.

Авторский коллектив – сотрудники Института всеобщей истории РАН, Института Африки РАН и преподаватели российских вузов (ИСАА МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ) – в доступной и лаконичной форме изложил основные проблемы и сюжеты истории Тропической и Южной Африки с XV в. по настоящее время. Среди них: развитие африканских цивилизаций, создание и распад колониальной системы, становление колониального общества, формирование антиколониализма и идеологии африканского национализма, события, проблемы и вызовы второй половины XX – начала XXI в.