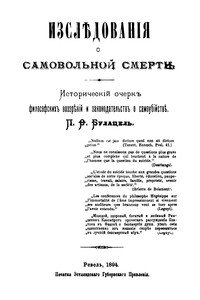Опыт петербургской интеллигенции в советские годы — по личным впечатлениямн - [4]
Питерец Бродский (о котором мне еще придется говорить) воспел — на поверхности иронично, в глубине совершенно серьезно — “собачью” доблесть петербургской культуры советских лет:
...И что им этот безобразный дом!
Для них тут садик, говорят вам — садик.
А то, что очевидно для людей,
собакам совершенно безразлично.
Вот это и зовут: “собачья верность”.
Оборотная сторона ориентации на незыблемые парадигмы — жесткость, плохо совместимая и с творческой продуктивностью, и с толерантностью. Постараюсь привести примеры того и другого.
К вопросу о продуктивности: когда шел теоретический спор между московской и питерской школами литературного перевода, по большей части трудно было не признать правоту питерцев, — но в практической деятельности москвичи чаще побеждали, ибо литературный перевод требует диалогического контакта как с переводимым автором, так и с возможным читателем. Переводчик не должен подлаживаться к читателю, но он должен видеть этого читателя, должен смотреть ему в глаза... Мне кажется, что вот это москвичам удавалось лучше; впрочем, я могу быть пристрастен — ведь я сам стихотворный переводчик московской школы!
А теперь к вопросу о толерантности — вот каков был мой опыт, опыт легкомысленно миролюбивого москвича. На каждой научной конференции по классической филологии я спешил первым делом приветствовать некоторых глубоко уважаемых мною питерских наставников; и почти сейчас же на мою почтительную голову обрушивались их гневные восклицания: “Нет, как вы можете говорить с этим ужасным человеком?” — это один мой наставник сурово осуждал меня за общение с другим (в тех же выражениях, что этот другой — за общение с ним).
А я не мог не чтить каждого из них: скажем, Аристида Ивановича Доватура — за незыблемую верность строжайшей филологической парадигме времен Виламовица-Мёллендорфа (Wilamowitz-Moellendorff), а Иосифа Моисеевича Тронского[3] — за живую чуткость к более новым исследовательским парадигмам литературоведения и языкознания. Я не мог не испытывать человеческого уважения к страданиям, испытанным Доватуром в ГУЛАГе, — и, в конце концов, к порядочности Тронского, скажем, по причине своих лаицистских убеждений приходившего в настоящую ярость по поводу моей христианской позиции и выражавшего эту ярость мне лично, однако строжайше воздерживавшегося от каких бы то ни было публичных высказываний, которые в советских условиях были бы доносом (а также опровергнувшего однажды одну из частных исторических версий советского атеизма просто по верности своему долгу эксперта по филологическим вопросам). Да ведь и научная судьба Тронского находилась, как у многих питерцев, в вопиющем несоответствии его знаниям, таланту и трудолюбию, так что какая-то доля сострадания примешивалась к моему респекту и в его случае. Возвращаясь к конфликту, скажу, что дело не обходилось уж совсем без политики: Тронский был в глазах Доватура все же слишком марксистом, Доватур в глазах Тронского — чуть ли не средоточием одиозной старорежимности; однако важнее всего было столкновение именно научных и общекультурных парадигм, как нынче говорят — clash of civilisations. Два человека, для которых их наука была дороже и важнее всего, ненавидели друг друга за различное понимание идентичности этой науки. А мне вспоминались стихи Брюсова о том, как ведут себя немногие, кто остался в живых “из славного племени / многомощных воителей, плывших под Трою”, из героического поколения:
...И когда мы порой, волей рока, встречаемся,
Мы, привыкшие к жизни средь малых, бесславных, —
Как враги друг на друга, грозя, ополчаемся,
Чтоб потешить наш дух поединком двух равных!
Но я хотел бы подчеркнуть, что сама эта несносная нетерпимость была оборотной стороной истинно питерской героической отчетливости парадигм.
Недаром же питерец Мандельштам клял “всетерпимость”, называя ее “пся-кровь”, и настаивал на том, что филология должна быть “вся кровь, вся нетерпимость”. Что ж, филологи Доватур и Тронский воплощали, каждый по-своему, этот очень питерский императив.
Интересно, что два представителя оппозиционной питерской интеллигенции, сумевшие выйти из тихого затвора профессионального или приватного микрокосма и наделать шуму в России, а один из них — и во всем мире, так или иначе отошли от беспримесной чистоты питерского культурного типа. Разумеется, я имею в виду Иосифа Бродского и Льва Гумилева.
В обоих казусах нельзя не усмотреть некоего внутреннего противоречия; но казус Льва Гумилева проще. Поэтому я начну с него. Евразийство — изначально не петербургская вещь; не только потому, что его отцы основатели в период, предшествовавший эмиграции, как правило, не были связаны с Петербургом, не только потому, что его доктрина содержит как раз эмфатическое осуждение дела Петра, так некстати открывшего свое “окно в Европу”, — но прежде всего потому, что оно с самого начала потребовало от своих адептов и глашатаев отхода от императива научного профессионализма во имя насквозь идеологического проекта “идеократии”. Из писем зачинателя евразийства Николая Сергеевича Трубецкого[4] — кстати, москвича — слишком хорошо известно, какие внутренние страдания причиняли агитационные правила игры этому замечательному ученому. Лев Гумилев, сам называвший себя “последним евразийцем”, принял эти правила игры, обрекавшие его на систематический дилетантизм. От питерской патетики при этом оставалась нетолерантная абсолютизация воспринятой парадигмы. Другой характерно питерский момент — трагизм его биографии, определенным образом сказавшийся на его мыслительном складе. Увы, ГУЛАГ, пространство, где человека подстерегают все на свете страдания и унижения, но где его мыслям не дождаться профессионально-коллегиальной критики, — не самое подходящее место для того, чтобы учиться рассуждать, переспрашивая себя и отвечая на свои же возражения. А к преступлениям тоталитаризма относится и такой шедевр адской издевки: что он заражает своих собственных истязуемых им жертв — своими же мыслительными недугами. Когда покойный Лев Николаевич в приватной обстановке отвечал на любую критику предупреждением, что не согласный с ним разоблачает себя как агент КГБ, а возможно, и ЦРУ, или когда он по ходу исторических рассуждений не без мрачного удовольствия пользовался понятием “идеологической диверсии”, — трудно было об этом не подумать. От питерской традиции при этом оставался только выстраданный пафос серьезности, отличавший его от множества подражателей, которые по существу всегда были настроены несравнимо легкомысленнее.
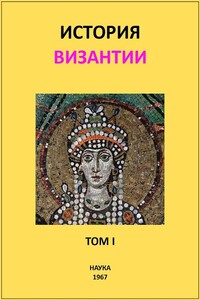
Первый том труда "История Византии" охватывает события с середины IV до середины VII века. В нем рассказано о становлении и укреплении Византийской империи, о царствовании Юстиниана и его значение для дальнейшего развития государства, о кризисе VII в. и важных изменениях в социальной и этнической структуре, об особенностях ранневизантийской культуры и международных связях Византии с Западом и Востоком.

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея УкраиныВ настоящий том собрания сочинений С. С. Аверинцева включены все выполненные им переводы из Священного Писания с комментариями переводчика. Полный текст перевода Евангелия от Матфея и обширный комментарий к Евангелию от Марка публикуются впервые. Другие переводы с комментариями (Евангелия от Марка, от Луки, Книга Иова и Псалмы) ранее публиковались главным образом в малодоступных теперь и периодических изданиях. Читатель получает возможность познакомиться с результатами многолетних трудов одного из самых замечательных современных исследователей — выдающегося филолога, философа, византолога и библеиста.Книга адресована всем, кто стремится понять смысл Библии и интересуется вопросами религии, истории, культуры.На обложке помещен образ Иисуса Христа из мозаик киевского собора Святой Софии.
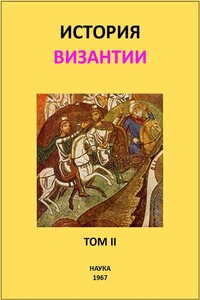
Второй том охватывает события византийской истории с конца VII до середины IX в. От этого периода византийской истории осталось мало источников. Почти полностью отсутствуют акты и подлинные документы. Сравнительно невелико количество сохранившихся монет. Почти совершенно нет архитектурных памятников того времени. Археологический материал, отражающий этот период, тоже крайне беден.

Что, собственно, означает применительно к изучению литературы и искусства пресловутое слово «мифология»? Для вдумчивого исследователя этот вопрос давно уже перешел из категории праздных спекуляций в сферу самых что ни на есть насущных профессиональных затруднений.
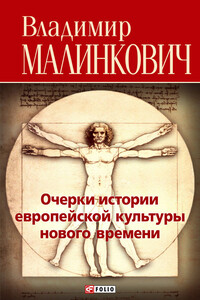
Книга известного политолога и публициста Владимира Малинковича посвящена сложным проблемам развития культуры в Европе Нового времени. Речь идет, в первую очередь, о тех противоречивых тенденциях в истории европейских народов, которые вызваны сложностью поисков необходимого равновесия между процессами духовной и материальной жизни человека и общества. Главы книги посвящены проблемам гуманизма Ренессанса, культурному хаосу эпохи барокко, противоречиям того пути, который был предложен просветителями, творчеству Гоголя, европейскому декадансу, пессиместическим настроениям Антона Чехова, наконец, майскому, 1968 года, бунту французской молодежи против общества потребления.

Известный исследователь белорусской кинолетописи кандидат искусствоведения К.И. Ремишевский в своей трилогии, охватывающей период с 1927 по 2010 год, ярко, достоверно и занимательно рассказывает об истории возникновения кинопериодики, анализирует сотни уникальных документальных сюжетов, фильмов и выпусков, отражающих политические, экономические и социально-культурные события в Беларуси. В первой книге трилогии представлена широкая панорама белорусской хроникально-документальной кинематографии 1927–1953 годов. Электронное приложение позволит читателю ознакомиться с малоизвестными фактами творческой деятельности крупнейших мастеров белорусской культуры, побродить по улицам белорусских городов, окунуться в неповторимую атмосферу ушедшего столетия, увидеть историю своей Родины такой, какой ее сохранили старые ленты кинохроники. Для историков, культурологов, работников сферы культуры, а также широкого круга читателей.

Богато и многообразно кукольное и рисованное кино социалистических стран, занимающее ведущее место в мировой мультипликации. В книге рассматриваются эстетические проблемы мультипликации, её специфика, прослеживаются пути развития национальных школ этого вида искусства.
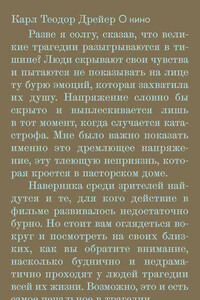
Датский кинорежиссер Карл Теодор Дрейер снял 14 полнометражных фильмов, пережил переход от немого кинематографа к звуковому и от черно-белого – к цветному, между съемками своего великого кино подрабатывал газетной критикой и заказными короткометражками и десятилетиями вынашивал замысел фильма о жизни Христа. В сборник «О кино» вошли интервью с Дрейером и его главные критические и теоретические статьи.

Новая книга политолога с мировым именем, к мнению которого прислушивается руководство основных государств, президента Center on Global Interests в Вашингтоне Николая Злобина – это попытка впервые разобраться в образе мыслей и основных ценностях, разделяемых большинством жителей США, понять, как и кем формируется американский характер, каковы главные комплексы и фобии, присущие американцам, во что они верят и во что не верят, как смотрят на себя, свою страну и весь мир, и главное, как все это отражается в политике США.