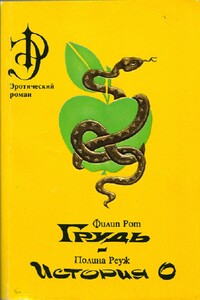Операция «Шейлок». Признание - [113]
Там я пробыл долго: плескал водой на лицо и одежду, вновь и вновь полоскал рот. То, что они позволили мне остаться здесь одному, что им, видимо, не хотелось, чтобы я весь провонял, что мне не заткнули рот и не завязали глаза, что никто не колотил в дверь рукоятью пистолета, требуя пошевеливаться, — все это пробудило во мне слабую надежду и навело на мысль, что никакие это не палестинцы, а евреи Пипика, его товарищи по заговору, ортодоксы, которых он околпачил, улизнув от них, а теперь они приняли меня за него.
Когда я привел себя в порядок, меня повели — теперь уже не толкая в спину чересчур сильно — из санузла по коридору к узкой лестнице, и, преодолев двадцать три невысоких ступеньки, мы попали на второй этаж, где на центральную лестничную площадку выходили двери четырех классных комнат. Над моей головой было потолочное окно со стеклами, потускневшими от копоти, а под ногами — истертые, исцарапанные половицы. Пахло затхлым табачным дымом, и этот запах перенес меня на сорок пять лет в прошлое, в маленькую талмуд тору[69] над нашей местной синагогой, этажом выше, где в начале сороковых три раза в неделю, ближе к вечеру, я с друзьями безо всякой охоты проводил один час за изучением древнееврейского языка. Раввин, который заведовал школой, был заядлый курильщик, и, насколько мне припоминалось, на втором этаже этой ньюаркской синагоги не только запах стоял такой же, но и обстановка была похожая: все обшарпанное, унылое, с привкусом какой-то отталкивающей трущобности.
Меня втолкнули в один из классов и закрыли за мной дверь. Я снова остался один. Мне никто не давал ни пинков, ни пощечин, никто не связывал мне руки, не надевал кандалы на ноги. Я увидел, что на классной доске что-то написано на иврите. Девять слов. Я не смог прочесть ни одного. Спустя четыре десятка лет после того, как я три года по вечерам учил древнееврейский язык, я не узнавал даже буквы. В передней части класса стоял простой деревянный стол, к нему был придвинут учительский стул с подлокотниками. На столе стоял телевизор. Чего-чего, а телевизора у нас в 1943 году не было, и сидели мы не на таких вот школьных стульях, отлитых из пластмассы, которые можно переставлять туда-сюда, а на длинных скамьях, прибитых к полу, за наклонными деревянными партами, на которых писали свои классные работы справа налево. Один час в день, три часа в неделю, сразу после шести с половиной часов в государственной школе мы сидели в этом классе и учились писать задом наперед, как будто солнце встает на западе, а листопад бывает весной, как будто Канада — на юге, а Мексика — на севере и носки мы надеваем на ботинки, а не наоборот; потом мы улепетывали обратно, в наш уютный американский мир, где все устроено иначе, где все правдоподобное, узнаваемое, предсказуемое, здравое, вразумительное и полезное раскрывало свой смысл слева направо, а единственным местом, где мы двигались в противоположном направлении, где это было естественно, логично, заложено в природе вещей, где это было уникальным и неоспоримым исключением, — единственным таким местом была бейсбольная площадка на пустыре. В начале сороковых мне казалось, что в чтении и письме справа налево не больше толку, чем если бы я, перекинув мяч через голову аутфилдера, рассчитывал на три очка за перебежку с третьей базы на вторую, а со второй — на первую.
Если дверной замок и щелкнул, я этого не услышал; бросившись к окнам, я обнаружил: незаперты, одно вообще приоткрыто. Я мог бы просто поднять раму, вылезти наружу, повиснуть, цепляясь руками за подоконник, а затем спрыгнуть вниз, во двор, с высоты трех или четырех метров. А потом — пробежать метров двадцать по проулку и, оказавшись на улице, громко позвать на помощь или же сразу двинуть к Аптеру. Вот только… если они начнут стрелять? Если, спрыгнув, я ноги-руки переломаю, а меня схватят и водворят обратно? Поскольку я до сих пор не знал, кто мои похитители, то не мог и решить, что рискованнее — сбежать или удержаться от такой попытки. То, что меня не приковали к стене в темнице без окон, еще не означает, что я имею дело с приятными людьми или что они спокойно воспримут мой отказ им помочь. Помочь — но в чем? Останься с ними, подумал я, и все узнаешь.
Я бесшумно открыл окно доверху, но, когда выглянул прикинуть, высоко ли прыгать, левое полушарие моего мозга вспорола какая-то шероховатая боль, и во мне бешено забилось все, что только может пульсировать в человеке. Я был уже не человек — я стал мотором, набиравшим обороты по воле чего-то, мне неподвластного. Я опустил раму так же бесшумно, как раньше поднял, оставив внизу прежний зазор, и, выйдя на середину класса, уселся — словно прилежный ученик, приходящий на урок первым, — поближе к доске, во второй от учительского стола и телевизора ряд; я одновременно был убежден, что выпрыгивать из окна не следует, потому что мне нечего опасаться со стороны евреев, и дивился своей ребяческой наивности. Неужели евреи не могут бить меня, морить голодом, пытать? Ни один еврей не может меня убить?
И я снова подошел к окну, но на сей раз лишь выглянул во двор, надеясь, что кто-нибудь, глазеющий на окна, увидит меня и догадается по моим беззвучным сигналам, что я здесь не по своей воле. И подумал: в чем бы ни была суть того, что происходит со мной сейчас, что происходит уже трое суток, все началось, когда я впервые уселся за парту в том маленьком, плохо проветриваемом классе — ньюаркском оригинале, с которого изготовлена эта импровизированная иерусалимская копия, уселся, когда снаружи уже смеркалось и я еле-еле мог сосредоточиться после полного учебного дня в той школе, где у меня всегда было легко на сердце, в обычной средней школе, где, как я ежедневно, на тысячах примеров и со всей ясностью сознавал, должно сформироваться мое реальное будущее. А из школы древнееврейского языка разве могло хоть что-то получиться? Учителями там были одинокие иностранцы, низкооплачиваемые беженцы, а учениками — и это еще лучшие из нас, а были и худшие — скучающие, непоседливые американские дети десяти, одиннадцати, двенадцати лет, которым было досадно сидеть там год за годом, всю осень, всю зиму и всю весну, пока приметы времен года дразнили наши органы чувств, маня неудержимо упиваться всеми нашими американскими удовольствиями. Школа древнееврейского была вовсе даже не школой, а условием сделки, которую наши родители заключили со своими родителями, подачкой нашим дедам, которым хотелось, чтобы внуки были такими же евреями, какими были они сами, держались бы старых, тысячелетних обычаев, — а заодно уздой для молодых, которые стремились отколоться, вздумали быть такими евреями, какими никто еще не осмеливался быть за все три тысячелетия нашей истории: говорить и думать на американском английском и только на американском английском, что непременно обрекало на отступничество. Наши затюканные родители просто оказались между двух огней в ситуации классического американского рэкета: метались между уроженцами местечек и уроженцами Ньюарка, получали на орехи от обеих сторон переговоров, уговаривали стариков: «Послушай, это же другая жизнь — детям придется тут как-то пробиваться», — и тут же сурово отчитывали молодежь: «Ты должен, ты обязан, ты не можешь ко всему поворачиваться спиной!» Каков компромисс! Что могло вообще получиться из этих трехсот или четырехсот часов самого неумелого преподавания в атмосфере, которая никак не располагала к учебе? «Что получилось?» — спрашиваете вы. Да всё, из этого получилось всё! Эта шифровка, смысл которой я уже не могу разгадать, четыре десятилетия назад оставила на мне неизгладимую отметину; из непостижимых слов, написанных на этой классной доске, выросло каждое английское слово, написанное мной когда-либо. Да, все до последней точки зародилось там, в том числе Мойше Пипик.
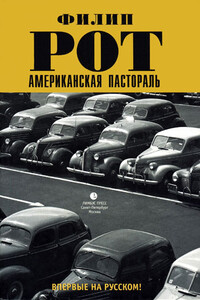
«Американская пастораль» — по-своему уникальный роман. Как нынешних российских депутатов закон призывает к ответу за предвыборные обещания, так Филип Рот требует ответа у Америки за посулы богатства, общественного порядка и личного благополучия, выданные ею своим гражданам в XX веке. Главный герой — Швед Лейвоу — женился на красавице «Мисс Нью-Джерси», унаследовал отцовскую фабрику и сделался владельцем старинного особняка в Олд-Римроке. Казалось бы, мечты сбылись, но однажды сусальное американское счастье разом обращается в прах…
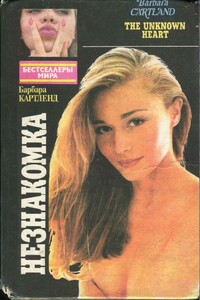
Женщина красива, когда она уверена в себе. Она желанна, когда этого хочет. Но сколько испытаний нужно было выдержать юной богатой американке, чтобы понять главный секрет опытной женщины. Перипетии сюжета таковы, что рекомендуем не читать роман за приготовлением обеда — все равно подгорит.С не меньшим интересом вы познакомитесь и со вторым произведением, вошедшим в книгу — романом американского писателя Ф. Рота.
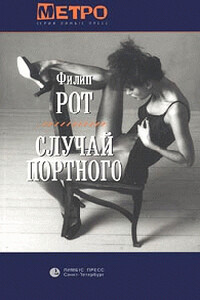
Блестящий новый перевод эротического романа всемирно известного американского писателя Филипа Рота, увлекательно и остроумно повествующего о сексуальных приключениях молодого человека – от маминой спальни до кушетки психоаналитика.
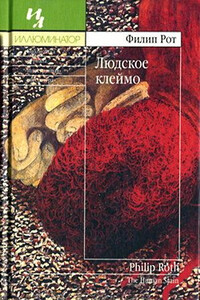
Филип Милтон Рот (Philip Milton Roth; род. 19 марта 1933) — американский писатель, автор более 25 романов, лауреат Пулитцеровской премии.„Людское клеймо“ — едва ли не лучшая книга Рота: на ее страницах отражен целый набор проблем, чрезвычайно актуальных в современном американском обществе, но не только в этом ценность романа: глубокий психологический анализ, которому автор подвергает своих героев, открывает читателю самые разные стороны человеческой натуры, самые разные виды человеческих отношений, самые разные нюансы поведения, присущие далеко не только жителям данной конкретной страны и потому интересные каждому.
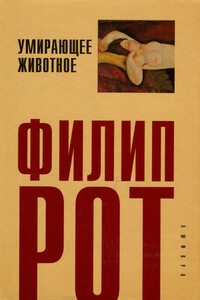
Его прозвали Профессором Желания. Он выстроил свою жизнь умело и тонко, не оставив в ней места скучному семейному долгу. Он с успехом бежал от глубоких привязанностей, но стремление к господству над женщиной ввергло его во власть «госпожи».

Не теряй надежду на жизнь, не теряй любовь к жизни, не теряй веру в жизнь. Никогда и нигде. Нельзя изменить прошлое, но можно изменить свое отношение к нему.
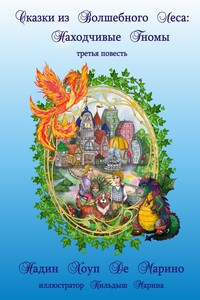
«Сказки из Волшебного Леса: Находчивые Гномы» — третья повесть-сказка из серии. Маша и Марис отдыхают в посёлке Заозёрье. У Дома культуры находят маленькую гномиху Макуленьку из Северного Леса. История о строительстве Гномограда с Серебряным Озером, о получении волшебства лепреконов, о биостанции гномов, где вылупились три необычных питомца из гигантских яиц профессора Аполи. Кто держит в страхе округу: заморская Чупакабра, Дракон, доисторическая Сколопендра или Птица Феникс? Победит ли добро?

«Сказки из Волшебного Леса: Семейство Бабы-яги» — вторая повесть-сказка из этой серии. Маша и Марис знакомятся с Яголей, маленькой Бабой-ягой. В Волшебном Лесу для неё строят домик, но она заболела колдовством и использует дневник прабабушки. Тридцать ягишн прилетают на ступах, поселяются в заброшенной деревне, где обитает Змей Горыныч. Почему полицейский на рассвете убежал со всех ног из Ягиноступино? Как появляются терема на курьих ножках? Что за Котовасия? Откуда Бес Кешка в посёлке Заозёрье?

Маринка больше всего в своей короткой жизни любила белые розы. Она продолжает любить их и после смерти и отчаянно просит отца в его снах убрать тяжелый и дорогой памятник и посадить на его месте цветы. Однако отец, несмотря на невероятную любовь к дочери, в смятении: он не может решиться убрать памятник, за который слишком дорого заплатил. Стоит ли так воспринимать сны всерьез или все же стоит исполнить волю покойной дочери?

О книге: Грег пытается бороться со своими недостатками, но каждый раз отчаивается и понимает, что он не сможет изменить свою жизнь, что не сможет избавиться от всех проблем, которые внезапно опускаются на его плечи; но как только он встречает Адели, он понимает, что жить — это не так уж и сложно, но прошлое всегда остается с человеком…

Джоэл бен Иззи – профессиональный артист разговорного жанра и преподаватель сторителлинга. Это он учил сотрудников компаний Facebook, YouTube, Hewlett-Packard и анимационной студии Pixar сказительству – красивому, связному и увлекательному изложению историй. Джоэл не сомневался, что нашел рецепт счастья – жена, чудесные сын и дочка, дело всей жизни… пока однажды не потерял самое ценное для человека его профессии – голос. С помощью своего учителя, бывшего артиста-рассказчика Ленни, он учится видеть всю свою жизнь и судьбу как неповторимую и поучительную историю.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.