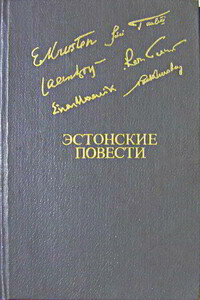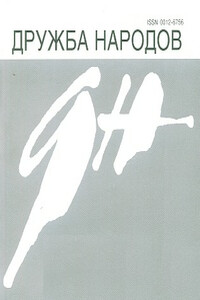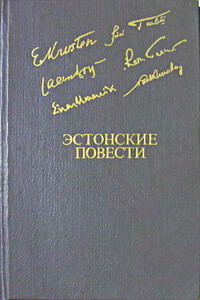Окна в плитняковой стене - [17]
Постой-ка… денщик за мной пришел! Приказали позвать! И на сей раз не дописал-
2
Итак, я здесь. В комнате для гостей коменданта города[28] генерал-лейтенанта фон Эссена.
Французские обои с серебряными лилиями по голубому полю. Камин, в котором комендантский денщик с утра старается поддерживать мокрыми дровами огонь. Одно заснеженное окно выходит на площадь перед дворцом, второе — в сторону бастиона и Тынисмяги. Дверь в смежную комнату. Там, под высоким балдахином, постель с белоснежными, но наверняка еще влажными простынями и наволочками. Здесь, возле двери, забрызганный чернилами секретер красного дерева. Огромные старинные свинцовые канделябры. Высокое зеркало, разделенное на квадраты тоненькими серебряными полосками. В зеркале — я.
Над выпуклым лбом пепельный парик. Горячие, упрямые, слегка навыкате светло-серые глаза. Большой, немного похожий на грушу нос. Рот средний. По поводу которого я сам (да и другие тоже) не знаю точно, выражает он усмешку или упрямство. Во всяком случае — ироничный рот. Каверзный рот, как было сказано. Как сказала сама Катя. В вырезе стоячего воротника кафтана, поверх шелковой рубашки — Георгиевский крест. За Пугачева. Слева на груди — огромный восьмиконечный Невский. За что? Так, вообще за все. Под париком, под орденами, под поясом лосин еще кое-что. На левой стороне темени четырехдюймовый шрам — штыковой удар. Память о Цорндорфе. На три пальца пониже Невского, чуть левее — шрам от пулевого ранения. А на левом боку — след выходного отверстия той же пули. Память о Кунерсдорфе. Под поясом белых лосин еще один шрам. Отсюда вынули часть ребер. В городе Торне. На левой кисти под белой лосиной перчаткой — длинный выпуклый шрам от рикошетного ранения. При взятии лагеря Ларга. А пониже пояса белых лосин — летучий ревматизм, вот уже пятнадцать лет причиняющий мучения. Результат проклятого двухдневного морского купания у Гогланда и Мемеля, где корабли из-под нас были пущены на дно. Белые лосины. Белоснежные. Высокие черные сапоги. Крупный мужчина. Правду говоря, даже слишком громоздкий. Еще не толстый. С божьей помощью. Благодаря высокому росту все еще хорошая офицерская внешность. Даже отличная. Выправка, во всяком случае, идеальная. По крайней мере, в сравнении с большой частью санкт-петербургских генералов. Вообще — барин. Большой барин. Генерал-майор Иван Иванович Михельсон. Кхм. Johann von Michelsonen. Generalmajor und Ritter[29]. Как говорят немцы. Из лифляндских дворян, как русские говорят. По бумагам уже давно. По бумагам с самого начала. На самом же деле — лишь с завтрашнего утра.
Завтра утром в десять часов секретарь дворянского собрания Эстляндии внесет соответствующую запись в дворянский матрикул. И предводитель дворянства господин Мориц Энгельбрехт фон Курсель своей рукой это подпишет. Ха-ха-ха-ха. Никогда никто в мире этого не сделал бы. Несмотря ни на какие шрамы. Если бы сама императрица прямо того не пожелала.
Итак, я здесь. Сам губернатор генерал-лейтенант фон Гротенхьельм приглашал меня завтра до обеда к себе во дворец. А я сообщил ему через своего адъютанта фон Толя, что завтра до обеда у меня не будет времени. Хоть он губернатор и генерал-лейтенант. Ха-ха-ха-ха. А я — Михельсон. И господин комендант города вчера вечером старательно вытянулся передо мной. Хотя он — господин фон Эссен и генерал-лейтенант. А я — Михельсон. Впрочем, завтра до обеда у меня в самом деле не будет времени для того, чтобы ходить к губернатору и заниматься светской болтовней. Кроме того, завтра в субботу восемнадцатого февраля в восемь часов вечера я и без того встречусь со всеми господами. И со всеми дамами тоже. Как мне сообщил господин фон Курсель. На площади за Домской церковью. В новом с иголочки Доме дворянского собрания[30]. На банкете, который дворяне устраивают в честь моей имматрикуляции. По поводу чести, им оказанной… et caetera. Хмм.
Я вправе сказать: мне довелось видеть и жизнь и смерть. И то и другое. Чаще, чем большинству людей. И я знаю себя. Нет, не до конца, о нет. Если бы я так сказал, я сказал бы, в сущности, неправду, Но я знаю себя лучше, чем себя знает большинство людей. Просто из интереса к миру. К миру вне меня и во мне. И все же должен признаться, когда вижу их пустые дурачества с оказанием почестей: как сладки гортани моей слова твои! Как в библии сказано. А еще слаще — ставить в тупик этих глуповатых вельмож. Даже — немного напугать — тогда совсем сладко… Я их никогда не пугал. Нет, нет, их — почти никогда. Им я только подушку под задницу подсовывал… Прусских мужиков с их костлявыми лицами, в черно-желтых грязных драгунских мундирах — их я действительно пугал. Горячих и злых польских конфедератов с коричневыми усами и мутными глазами, тех я достаточно устрашал. И турецких янычар в дурацких тюрбанах, с кривыми саблями — тех тоже. И на огромную рыжебородую русскую «сволочь», босую или в лаптях, — на них я нагонял страх на Дону, на Каспии и на Урале. Рунич говорил мне, что он слышал, как еще два года назад в Пензе женщина стращала своего мальчишку: Ты смотри у меня, — не то придет Михельсон.

Роман выдающегося эстонского писателя, номинанта Нобелевской премии, Яана Кросса «Полет на месте» (1998), получил огромное признание эстонской общественности. Главный редактор журнала «Лооминг» Удо Уйбо пишет в своей рецензии: «Не так уж часто писатели на пороге своего 80-летия создают лучшие произведения своей жизни». Роман являет собой общий знаменатель судьбы главного героя Уло Паэранда и судьбы его родной страны. «Полет на месте» — это захватывающая история, рассказанная с исключительным мастерством.
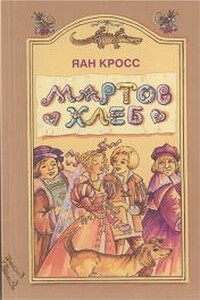
Яан Кросс (1920–2007) — всемирно известный эстонский классик. Несколько раз выдвигался на Нобелевскую премию. Поэт и прозаик. Многие произведения писателя переводились на русский язык и печатались в СССР огромными тиражами, как один из исторических романов «Императорский безумец» (1978, русский текст — 1985).Детская повесть-сказка «Мартов хлеб» (1973, впервые по-русски — 1974) переносит вас в Средневековье. Прямо с Ратушной площади Старого города, где вы можете и сегодня подойти к той самой старой Аптеке… И спросить лекарство от человеческой недоброты и глупости…
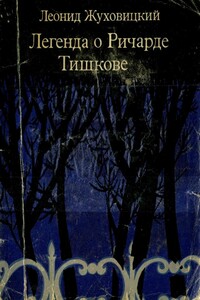
Герои произведений, входящих в книгу, — художники, строители, молодые рабочие, студенты. Это очень разные люди, но показаны они в те моменты, когда решают важнейший для себя вопрос о творческом содержании собственной жизни.Этот вопрос решает молодой рабочий — герой повести «Легенда о Ричарде Тишкове», у которого вдруг открылся музыкальный талант и который не сразу понял, что талант несет с собой не только радость, но и большую ответственность.Рассказы, входящие в сборник, посвящены врачам, геологам архитекторам, студентам, но одно объединяет их — все они о молодежи.

Семнадцатилетняя Наташа Власова приехала в Москву одна. Отец ее не доехал до Самары— умер от тифа, мать от преждевременных родов истекла кровью в неуклюжей телеге. Лошадь не дотянула скарб до железной дороги, пала. А тринадцатилетний брат по дороге пропал без вести. Вот она сидит на маленьком узелке, засунув руки в рукава, дрожит от холода…

Советские геологи помогают Китаю разведать полезные ископаемые в Тибете. Случайно узнают об авиакатастрофе и связанном с ней некоем артефакте. После долгих поисков обнаружено послание внеземной цивилизации. Особенно поражает невероятное для 50-х годов описание мобильного телефона со скайпом.Журнал "Дон" 1957 г., № 3, 69-93.

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.Собрание сочинений в десяти томах. В первый том вошли рассказы и очерки 1881–1884 гг.: «Сестры», «В камнях», «На рубеже Азии», «Все мы хлеб едим…», «В горах» и «Золотая ночь».

«Кто-то долго скребся в дверь.Андрей несколько раз отрывался от чтения и прислушивался.Иногда ему казалось, что он слышит, как трогают скобу…Наконец дверь медленно открылась, и в комнату проскользнул тип в рваной телогрейке. От него несло тройным одеколоном и застоялым перегаром.Андрей быстро захлопнул книгу и отвернулся к стенке…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Роман И. Мележа «Метели, декабрь» — третья часть цикла «Полесская хроника». Первые два романа «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» были удостоены Ленинской премии. Публикуемый роман остался незавершенным, но сохранились черновые наброски, отдельные главы, которые также вошли в данную книгу. В основе содержания романа — великая эпопея коллективизации. Автор сосредоточивает внимание на воссоздании мыслей, настроений, психологических состояний участников этих важнейших событий.
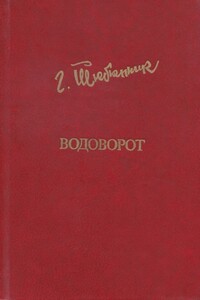
Роман «Водоворот» — вершина творчества известного украинского писателя Григория Тютюнника (1920—1961). В 1963 г. роман был удостоен Государственной премии Украинской ССР им. Т. Г. Шевченко. У героев романа, действие которого разворачивается в селе на Полтавщине накануне и в первые месяцы Великой Отечественной войны — разные корни, прошлое и характеры, разные духовный опыт и принципы, вынесенные ими из беспощадного водоворота революции, гражданской войны, коллективизации и раскулачивания. Поэтому по-разному складываются и их поиски своей лоции в новом водовороте жизни, который неотвратимо ускоряется приближением фронта, а затем оккупацией…