Одинокий прохожий - [21]
Георгий Раевский так вчитался в своих любимых поэтов, что говорит их голосом, их интонацией: в «Строфах» мы слышим отголоски и пушкинской речи («Вот разбежался, рукою взмахнул, упругим движеньем… Он и не смотрит туда, тешась мгновенной игрой»), но надо всеми отзвуками господствует тютчевский голос, тютчевская редуцированная интонация, дающая основной тон всему сборнику — Тютчевские образы, тютчевская строфичность, тютчевские коды, тютчевская мелодия. Как не узнать Тютчева в таких восклицаниях:
А таких восклицаний много в книге Раевского, слушающего в тишине ночи, как
Газета «Руль», Берлин. 1928, 1 мая.
Марк Слоним. Литературный Дневник
О литературной критике в эмиграции. — Молодые русские поэты за рубежом: В.Андреев,В. Познер, Г.Раевский, Д. Кнут и др.
3
<…> Другой характер носит подражательность Г. Раевского («Строфы» — Париж). Она вытекает у него из определенной попытки «мироощущения». Раевский стремится к постоянному отгадыванию за миром явным — мира тайного. У него пейзаж, природа — прорыв в космос, любовь — в стихию, мысль — в Бога. И тема есть у Раевского, и неплохо владеет он стихом — но неизменно, за его строками, тяготеющими к суровой значительности, возникает их поэтический источник. Не только основные тютчевские мотивы — разлад между природой и человеком, слепой хаос стихии и тщета мысли, пророчество сна и бескрылый порыв плоти и разума — владеют Раевским, но и тютчевский словарь, любимые эпитеты и мелодика Тютчева.
Доказывать этого и не нужно. Достаточно привести какой-нибудь отрывок из книжки Раевского:
Конечно, хорошо, что учителем своим Раевский выбирает Тютчева. Хороша и выдержанная стройность его стихов. Но покамест они обнаруживают лишь качества умного и довольно тонкого подражателя; трудно сказать, имеется ли за этими чисто формальными данными и самостоятельный дар творца. Даже два лучших стихотворения в книге — одно навеяно Горацием («Одни считают в небе созвездия»), а другое — «Поездка в Линге» с видением войны — смутно напоминают что-то как будто уже читанное.
Все время Раевскому хочется напомнить слова Боратынского, которого он, очевидно, слишком хорошо знает:
<…>
«Воля России». Прага. 1928, № 7.
Глеб Струве. Рецензия на сб. «Строфы»
Георгий Раевский учился по хорошим образцам, у него есть власть над стихом, чувство меры, редко изменяющий вкус. Но так велика его не только формальная, но и тематическая зависимость от Тютчева, что за отзвуками Тютчева порой неразличим поэтический голос самого Раевского. И невольно является у читателя вопрос: есть ли высокий, напряженный лад этих умелых, подчас чеканных строф (кстати, название «Строфы» очень удачно выбрано) — лишь талантливое искусничанье применительно к высоким поэтическим образцам, или же тютчевские мотивы и формы суть непроизвольное совпадение, определяемое внутренним сродством, и в них надо искать проявления собственного поэтического и душевного строя Раевского? Или, наконец, налицо есть и то и другое? Окончательный ответ на эти вопросы дать пока трудно, тем более, что лучшие стихи в книге как раз те, на которых лежит несомненная тень великого гения Тютчева, певца таинственного в космосе и человеке (сравните, хотя бы, такие стихи, как «Сухой песок, песок сыпучий…», «Как женщина, изменчива весна…», «Мой друг, тебя я видел нынче спящей…», «Полдневной щедростью согрета…», «Безжизненна, бледна и молчалива…», «Я задремал — и надо мною…», «И в роще ветра шум свободный…», «Уже растут дневные голоса…» — в них влияние Тютчева проследимо и на ритмах, и на словаре, и на тематике).
Во всяком случае, нельзя отрицать ни поэтического умения, ни поэтической культуры Георгия Раевского, выгодно выделяющих его книгу среди многих, ей подобных.
Газета «Россия и славянство». Париж. 1928, 22 декабря.
Михаил Струве. Молодые поэты
(ДОВИД КНУТ. Вторая книга стихов. — ГЕОРГИЙ РАЕВСКИЙ. Строфы. — ВАДИМ АНДРЕЕВ. Недуг Бытия).
<…> Георгий Раевский как раз полная противоположность Д. Кнуту. У Раевского, при несомненной некоторой одаренности («поэтическом слухе» — что ли), все до невероятия благополучно, закругленно, закончено и, вместе с тем, ничего, ничего совершенно своего. Мы не видим никакого живого лица, мы только замечаем несколько выдуманных выражений, несколько твердо заученных поз.
Но повторяем, что в некоторой литературной талантливости Раевскому отказать нельзя и, думается, что, например, в области журналистики он бы себя нашел.
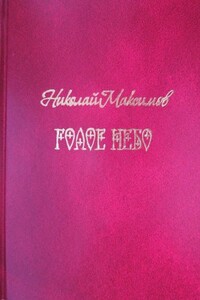
Стихи безвременно ушедшего Николая Михайловича Максимова (1903–1928) продолжают акмеистическую линию русской поэзии Серебряного века.Очередная книга серии включает в полном объеме единственный сборник поэта «Стихи» (Л., 1929) и малотиражную (100 экз.) книгу «Памяти Н. М. Максимова» (Л., 1932).Орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормами современного русского языка.

Филарет Иванович Чернов (1878–1940) — талантливый поэт-самоучка, лучшие свои произведения создавший на рубеже 10-20-х гг. прошлого века. Ему так и не удалось напечатать книгу стихов, хотя они публиковались во многих популярных журналах того времени: «Вестник Европы», «Русское богатство», «Нива», «Огонек», «Живописное обозрение», «Новый Сатирикон»…После революции Ф. Чернов изредка печатался в советской периодике, работал внештатным литконсультантом. Умер в психиатрической больнице.Настоящий сборник — первое серьезное знакомство современного читателя с философской и пейзажной лирикой поэта.
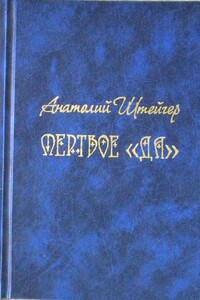
Очередная книга серии «Серебряный пепел» впервые в таком объеме знакомит читателя с литературным наследием Анатолия Сергеевича Штейгера (1907–1944), поэта младшего поколения первой волны эмиграции, яркого представителя «парижской ноты».В настоящее издание в полном составе входят три прижизненных поэтических сборника А. Штейгера, стихотворения из посмертной книги «2х2=4» (за исключением ранее опубликованных), а также печатавшиеся только в периодических изданиях. Дополнительно включены: проза поэта, рецензии на его сборники, воспоминания современников, переписка с З.

Вере Сергеевне Булич (1898–1954), поэтессе первой волны эмиграции, пришлось прожить всю свою взрослую жизнь в Финляндии. Известность ей принес уже первый сборник «Маятник» (Гельсингфорс, 1934), за которым последовали еще три: «Пленный ветер» (Таллинн, 1938), «Бурелом» (Хельсинки, 1947) и «Ветви» (Париж, 1954).Все они полностью вошли в настоящее издание.Дополнительно републикуются переводы В. Булич, ее статьи из «Журнала Содружества», а также рецензии на сборники поэтессы.