Одинокий прохожий - [14]
«Ты отвечай, — я буду вопрошать…»
«Везут равнодушные клячи…»
«Не хрустальный бокал, не хиосская гроздь…»
«Пока мы не погибли от чумы…»
«Как мало, как горестно мало…»
«Ты говоришь: весь мир во мраке…»
Ребенку
«Как в этой жизни бедственной и нищей…»
«“Беатриче, Лаура, Изольда, — плеяда…»
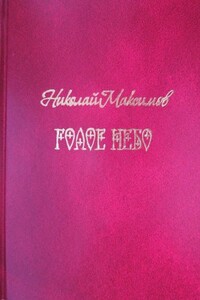
Стихи безвременно ушедшего Николая Михайловича Максимова (1903–1928) продолжают акмеистическую линию русской поэзии Серебряного века.Очередная книга серии включает в полном объеме единственный сборник поэта «Стихи» (Л., 1929) и малотиражную (100 экз.) книгу «Памяти Н. М. Максимова» (Л., 1932).Орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормами современного русского языка.

Филарет Иванович Чернов (1878–1940) — талантливый поэт-самоучка, лучшие свои произведения создавший на рубеже 10-20-х гг. прошлого века. Ему так и не удалось напечатать книгу стихов, хотя они публиковались во многих популярных журналах того времени: «Вестник Европы», «Русское богатство», «Нива», «Огонек», «Живописное обозрение», «Новый Сатирикон»…После революции Ф. Чернов изредка печатался в советской периодике, работал внештатным литконсультантом. Умер в психиатрической больнице.Настоящий сборник — первое серьезное знакомство современного читателя с философской и пейзажной лирикой поэта.
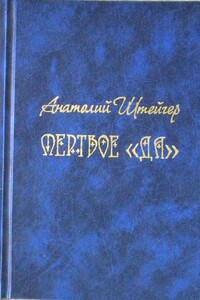
Очередная книга серии «Серебряный пепел» впервые в таком объеме знакомит читателя с литературным наследием Анатолия Сергеевича Штейгера (1907–1944), поэта младшего поколения первой волны эмиграции, яркого представителя «парижской ноты».В настоящее издание в полном составе входят три прижизненных поэтических сборника А. Штейгера, стихотворения из посмертной книги «2х2=4» (за исключением ранее опубликованных), а также печатавшиеся только в периодических изданиях. Дополнительно включены: проза поэта, рецензии на его сборники, воспоминания современников, переписка с З.

Вере Сергеевне Булич (1898–1954), поэтессе первой волны эмиграции, пришлось прожить всю свою взрослую жизнь в Финляндии. Известность ей принес уже первый сборник «Маятник» (Гельсингфорс, 1934), за которым последовали еще три: «Пленный ветер» (Таллинн, 1938), «Бурелом» (Хельсинки, 1947) и «Ветви» (Париж, 1954).Все они полностью вошли в настоящее издание.Дополнительно републикуются переводы В. Булич, ее статьи из «Журнала Содружества», а также рецензии на сборники поэтессы.