Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества - [19]
В «Философии Энди Уорхола» он в очень точных понятиях поясняет, как техника освободила его от бремени нужды в других людях. В начале этой лаконичной, воздушной и замечательно смешной книги (которая начинается с неприятных фраз: «Б — любой, кто помогает мне убить время. Б — никто, и я никто. Б и я») Уорхол возвращается к своей юности, вспоминает бабушек и батончики «Хёрши», невырезанных вырезных бумажных куколок у себя под подушкой. Шумной популярностью он не пользовался, говорит, и, хотя несколько милых друзей у него имелось, ни с кем он не был особенно близок. «Я ни с кем близко не дружил, хотя думаю, что сам хотел этого, потому что, когда видел, как ребята рассказывают друг другу о своих проблемах, я чувствовал, что никому не нужен. Никто не делился со мной своими секретами — наверное, я не вызывал желания посекретничать со мной».
Это не очень-то похоже на исповедь. Слова витают, невесомые, — игра или пародия на облегчение души, хотя они впрямую сплавляют одиночество, желание близости и желание говорить больше или глубже. Но Уорхол идет себе дальше, вываливая подробности о своих первых годах на Манхэттене. В ту пору он все еще хотел близости с людьми, чтобы они открывали ему свои потаенные места, делились с ним неуловимыми, вожделенными «бедами». Он все думал, что соседи по комнате станут ему добрыми друзьями, но потом обнаружил, что они лишь искали того, кто будет платить за съем, и это его ранило, он вновь ощущал, что его исключили.
В те периоды моей жизни, когда я чувствовал себя весьма общительным и искал близкой дружбы, я не мог найти людей, которым это было нужно, поэтому именно тогда, когда я больше всего не хотел быть один, я был одинок. Но как только я решил, что лучше останусь один и пусть никто не рассказывает мне о своих проблемах, все, кого я никогда в жизни раньше не видел, начали гоняться за мной, чтобы рассказать мне то, что я как раз принял решение не слушать. Как только я стал одиноким человеком, у меня и появилось то, что можно назвать «свитой».
Но теперь у него возникла парадоксальная личная беда: все эти новые друзья рассказывали ему чересчур много всего. Вместо того чтобы знать об их бедах опосредованно, как ему хотелось бы, он почувствовал, что друзья заполоняют его, «как микробы». Он сходил к психиатру — потолковать об этом, и по пути домой заглянул в «Мэйсиз»: сомневаешься — иди за покупками, согласно кредо Уорхола; в «Мэйсиз» он купил телевизор, первый в своей жизни, — девятнадцатидюймовый черно-белый «Ар-си-эй».
Кому нужен мозгоправ? Если держать телевизор включенным, пока другие разговаривают, это достаточно отвлекает, чтобы не слишком втягиваться в беседу, — этот процесс Уорхол считал похожим на «волшебство». На самом деле телевизор оказался буфером еще много для чего. Уорхол мог созвать или разогнать любую компанию нажатием одной кнопки и обнаружил, что так можно не слишком заботиться о сближении с другими людьми — уходить от процесса, который был для него в прошлом таким болезненным.
Странная это история, возможно, более понятная как притча, как способ выразить, каково это — родиться именно таким вот существом. Это история о желании и нежелании: о потребности в том, чтобы люди изливали тебе душу, и потребности, чтобы прекращали, о нужде восстанавливать свои границы, поддерживать обособленность и самообладание. Эта история о личности, которая и жаждет слиться с другим эго, и страшится этого, жаждет и страшится погрязнуть или захлебнуться, заглотить суматоху и неурядицы чужой жизни, заразиться ими, словно чужие слова — буквально переносчики недуга.
Таков тяни-толкай близости, процесс, который Уорхол счел куда более управляемым, когда осознал посреднические свойства машин, их способность заполнять пространство эмоций. Тот первый телевизор оказался и подменой любви, и панацеей от любовных ран, от боли отвержения и брошенности. Он даровал разгадку головоломки, обозначенной в первых же строках «Философии»: «Б мне нужно, потому что я не могу быть один. Разве что когда сплю. В это время я не могу быть ни с кем», — обоюдоострое одиночество, где канат перетягивают страх близости и ужас одиночества. Фотограф Стивен Шор[41] вспоминает, как поразило его в 1960-х то, какую сокровенную роль это играло в жизни Уорхола, «сколь ошеломительно и пронзительно, что он — Энди Уорхол, только что вернувшийся с всенощной вечеринки или с целой их череды, и что он включил телевизор и плакал, пока не уснул, под фильм с Присциллой Лейн[42], и потом пришла его мать и выключила ящик».
Стать машиной, спрятаться за машинами, задействовать машины как компаньонов или управителей человеческими общением и связью — Энди в этом, как и во всем, был в авангарде, на передовой волне перемен в культуре, бросался с головой в то, что вскоре станет главной одержимостью нашего времени. Его привязанность и предвосхищает, и зачинает нашу эпоху автоматизации — наше зачарованное, нарциссическое влечение к экранам, беспредельное делегирование нашей эмоциональной и практической жизни тем или иным приспособлениям и аппаратуре.
Хоть я и заставляла себя ежедневно выходить на улицу и прогуливаться вдоль реки, но все больше проводила время, валяясь на оранжевом диване у себя в квартире, уложив на колени макбук, иногда сочиняя письма или болтая по Skype, но чаще просто блуждала по бесчисленным закуткам интернета, смотрела музыкальные клипы, памятные с юности, или часами напролет портила глаза, копаясь в одежных вешалках на сайтах торговых марок, которые были мне не по карману. Без своего макбука я бы пропала: он обещал даровать мне связь, а между тем все заполнял и заполнял пустоту, оставленную любовью.

Необоримая жажда иллюзии своего могущества, обретаемая на краткие периоды вера в свою способность заполнить пустоту одиночества и повернуть время вспять, стремление забыть о преследующих тебя неудачах и череде потерь, из которых складывается существование: всё это роднит между собой два пристрастия к созданию воображаемой альтернативы жизни — искусство, в частности литературу, и алкоголизм. Британская писательница Оливия Лэнг попыталась рассмотреть эти пристрастия, эти одинаково властные над теми, кто их приобрел, и одинаково разрушительные для них зависимости друг через друга, показав на нескольких знаменитых примерах — Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Теннесси Уильямс, Джон Берримен, Джон Чивер, Реймонд Карвер, — как переплетаются в творчестве равно необходимые для него иллюзия рая и мучительное осознание его невозможности.

Кэти – писательница. Кэти выходит замуж. Это лето 2017 года и мир рушится. Оливия Лэнг превращает свой первый роман в потрясающий, смешной и грубый рассказ о любви во время апокалипсиса. Словно «Прощай, Берлин» XXI века, «Crudo» описывает неспокойное лето 2017 года в реальном времени с точки зрения боящейся обязательств Кэти Акер, а может, и не Кэти Акер. В крайне дорогом тосканском отеле и парализованной Брекситом Великобритании, пытаясь привыкнуть к браку, Кэти проводит первое лето своего четвертого десятка.

Эта книга – научно-популярное издание на самые интересные и глобальные темы – о возрасте и происхождении человеческой цивилизации. В ней сообщается о самом загадочном и непостижимом – о древнем посещении Земли инопланетянами и об удивительных генетических экспериментах, которые они здесь проводили. На основании многочисленных источников автор достаточно подробно описывает существенные отличия Небожителей от обычных земных людей и приводит возможные причины уничтожения людей Всемирным потопом.

Две девушки-провинциалки «слегка за тридцать» пытаются покорить Москву. Вера мечтает стать актрисой, а Катя — писательницей. Но столица открывается для подруг совсем не радужной. Нехватка денег, неудачные романы, сложности с работой. Но кто знает, может быть, все испытания даются нам неспроста? В этой книге вы не найдете счастливых розовых историй, построенных по приторным шаблонам. Роман очень автобиографичен и буквально списан автором у жизни. Книга понравится тем, кто любит детальность, ценит прозу жизни, как она есть, без прикрас, и задумывается над тем, чем он хочет заниматься на самом деле. Содержит нецензурную брань.
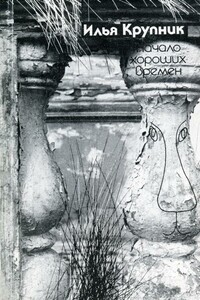
Читателя, знакомого с прозой Ильи Крупника начала 60-х годов — времени его дебюта, — ждет немалое удивление, столь разительно несхожа его прежняя жестко реалистическая манера с нынешней. Но хотя мир сегодняшнего И. Крупника можно назвать странным, ирреальным, фантастическим, он все равно остается миром современным, узнаваемым, пронизанным болью за человека, любовью и уважением к его духовному существованию, к творческому началу в будничной жизни самых обыкновенных людей.
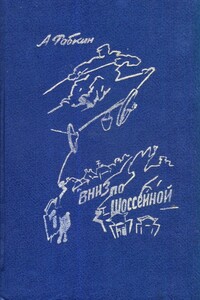
Абрам Рабкин. Вниз по Шоссейной. Нева, 1997, № 8На страницах повести «Вниз по Шоссейной» (сегодня это улица Бахарова) А. Рабкин воскресил ушедший в небытие мир довоенного Бобруйска. Он приглашает вернутся «туда, на Шоссейную, где старая липа, и сад, и двери открываются с легким надтреснутым звоном, похожим на удар старинных часов. Туда, где лопухи и лиловые вспышки колючек, и Годкин шьёт модные дамские пальто, а его красавицы дочери собираются на танцы. Чудесная улица, эта Шоссейная, и душа моя, измученная нахлынувшей болью, вновь и вновь припадает к ней.

Один человек с плохой репутацией попросил журналиста Максима Грязина о странном одолжении: использовать в статьях слово «блабериды». Несложная просьба имела последствия и закончилась журналистским расследованием причин высокой смертности в пригородном поселке Филино. Но чем больше копал Грязин, тем больше превращался из следователя в подследственного. Кто такие блабериды? Это не фантастические твари. Это мы с вами.

Взглянуть на жизнь человека «нечеловеческими» глазами… Узнать, что такое «человек», и действительно ли человеческий социум идет в нужном направлении… Думаете трудно? Нет! Ведь наша жизнь — игра! Игра с юмором, иронией и безграничным интересом ко всему новому!