Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества - [18]
Уорхол подчеркивал блеск одинаковости одновременно с его потенциально тревожной чертой, размножая в своих работах привычные предметы, — бомбардировал воспроизводством повторяющихся образов в текучих палитрах. В 1962 году он открыл для себя механический, чудесно непредсказуемый процесс шелкотрафаретной печати. Теперь можно было не возиться с ручной живописью, а переносить фотографии прямо на печать посредством профессионально изготовленных шаблонов. В то лето он завалил гостиную — она же мастерская — своего нового дома на Лексингтон-авеню сотнями Мэрилин и Элвисов, их лица он накатывал на холсты, покрытые монохромными кляксами розового и лилового, алого, пурпурного и бледно-зеленого.
«Я пишу так потому, что хочу быть машиной, и чувствую, что, чем бы ни занимался и ни занимался как машина, — как раз то, чем я и хочу заниматься», — эту знаменитую фразу он произнес в интервью Джину Свенсону[38] для Art News, состоявшегося через год.
ЭУ: Думаю, все должны быть машинами. Думаю, все должны быть как все.
ДС: Это и есть суть поп-арта?
ЭУ: Да. Когда все одинаковое.
ДС: А когда все одинаковое — это как быть машиной?
ЭУ: Да, потому что каждый раз делаешь одно и то же. Делаешь и делаешь.
ДС: И вы это одобряете?
ЭУ: Да[39].
Нравится — то, к чему тянет. Быть «вроде чего-то» — быть похожим или неотличимым, одного происхождения или рода. Думаю, все должны быть как все: одинокое желание таится в сердцевине этих родных однородных предметов, всяк желанен, всяк желанно одинаков.
Стремление преобразовать себя в машину не исчерпалось созданием искусства. Примерно в то же время, когда Уорхол писал свои первые бутылки «Колы», он переизобрел и собственный образ — сотворил продукт и из себя самого. В 1950-х его мотало между Тряпичным Энди и более щегольским субъектом в костюмах братьев Брукс и дорогих, зачастую одинаковых рубашках. Ныне же он создал кодекс своего внешнего вида, отшлифовал его: не напирая, как обычно, на свои сильные стороны, а скорее подчеркивая черты, из-за которых он выглядел неловко и чувствовал себя неувереннее всего. Он не отказался от собственной индивидуальности, не попытался выглядеть обыденнее. Напротив — он сознательно добился того, чтобы смотреться воспроизводимым предметом, симулякром, за каким можно прятаться — и какой можно предъявлять всему белому свету.
Отверженный галереями за избыточную манерность, чрезмерное гейство, он добавил своим жестам, подвижным кистям и легкой, прыгучей походке еще больше женственности. Парики стал носить чуть набекрень — чтобы подчеркнуть их присутствие, стал преувеличивать неловкую манеру говорить: теперь он бормотал — если вообще открывал рот. По словам критика Джона Ричардсона[40], «он сделал из своей уязвимости добродетель и упредил или же нейтрализовал любые возможные насмешки. Никто уже не мог больше над ним „потешаться“. Уорхол сам с собой это сделал». Упреждением критики мы все занимаемся понемножку, однако приверженность и дотошность, с какой Уорхол усилил свои изъяны, — редки, и говорит это и о его смелости, и о сильнейшем страхе отвержения.
Новый Энди сделался мгновенно узнаваемым — карикатурой, которую можно было копировать сколько влезет. Более того, в 1967 году он именно это и сделал, тайно отправив актера Алана Миджетта в костюме Энди Уорхола в лекционное турне по университетам вместо себя. Облаченный в кожаный пиджак, парик альбиноса и «рей-бэновские» очки-«странники», бормоча все лекции себе под нос, Миджетт не вызывал подозрений вплоть до того, когда разленился и перестал накладывать фирменный уорхоловский блин мертвенно-бледного грима.
Множественные Энди, как и множественные шелкотрафаретные Мэрилин и Элвисы, порождают вопрос об оригиналах и подлинности, о процессах воспроизведения, в которых рождается знаменитость. Но желание превратить себя во множество или в машину — это еще и желание освободиться от человеческого чувства, нужды, то есть от нужды быть оцененным или любимым. «У машин меньше бед. Я бы хотел быть машиной, а вы?» — сказал он журналу Time в 1963 году.
Зрелые работы Уорхола в многочисленных сферах искусства — от шелкотрафаретных примадонн до чародейски случайных и сумасбродных жестов — суть постоянный побег от эмоции и серьезности; они возникают, по чести сказать, из желания подорвать, устранить навязчивые представления о подлинности, искренности и личном самовыражении, избавиться от них. Безучастность — в той же мере часть уорхоловского взгляда, гештальта, что и физические приспособления, которые он применял, играя самого себя. За все одиннадцать лет и восемьсот шесть страниц его пространных дневников отклик на сцены чувственных порывов или горестей почти всегда таков: «это очень абстрактно» или «мне было ужасно неловко».
Как так вышло? Как Тряпичный Энди со своим нытьем сделался обезболенным верховным жрецом поп-арта? Стать машиной означает и иметь отношения с машинами, применять физические приспособления, чтобы заполнить неуютные, а иногда и невыносимые пустоты между самостью и миром. Уорхол не смог бы достичь этой безучастности, этой завидной отрешенности, не применяя мощные замены человеческой близости и любви.

Необоримая жажда иллюзии своего могущества, обретаемая на краткие периоды вера в свою способность заполнить пустоту одиночества и повернуть время вспять, стремление забыть о преследующих тебя неудачах и череде потерь, из которых складывается существование: всё это роднит между собой два пристрастия к созданию воображаемой альтернативы жизни — искусство, в частности литературу, и алкоголизм. Британская писательница Оливия Лэнг попыталась рассмотреть эти пристрастия, эти одинаково властные над теми, кто их приобрел, и одинаково разрушительные для них зависимости друг через друга, показав на нескольких знаменитых примерах — Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Теннесси Уильямс, Джон Берримен, Джон Чивер, Реймонд Карвер, — как переплетаются в творчестве равно необходимые для него иллюзия рая и мучительное осознание его невозможности.

Кэти – писательница. Кэти выходит замуж. Это лето 2017 года и мир рушится. Оливия Лэнг превращает свой первый роман в потрясающий, смешной и грубый рассказ о любви во время апокалипсиса. Словно «Прощай, Берлин» XXI века, «Crudo» описывает неспокойное лето 2017 года в реальном времени с точки зрения боящейся обязательств Кэти Акер, а может, и не Кэти Акер. В крайне дорогом тосканском отеле и парализованной Брекситом Великобритании, пытаясь привыкнуть к браку, Кэти проводит первое лето своего четвертого десятка.

Эта книга – научно-популярное издание на самые интересные и глобальные темы – о возрасте и происхождении человеческой цивилизации. В ней сообщается о самом загадочном и непостижимом – о древнем посещении Земли инопланетянами и об удивительных генетических экспериментах, которые они здесь проводили. На основании многочисленных источников автор достаточно подробно описывает существенные отличия Небожителей от обычных земных людей и приводит возможные причины уничтожения людей Всемирным потопом.

Две девушки-провинциалки «слегка за тридцать» пытаются покорить Москву. Вера мечтает стать актрисой, а Катя — писательницей. Но столица открывается для подруг совсем не радужной. Нехватка денег, неудачные романы, сложности с работой. Но кто знает, может быть, все испытания даются нам неспроста? В этой книге вы не найдете счастливых розовых историй, построенных по приторным шаблонам. Роман очень автобиографичен и буквально списан автором у жизни. Книга понравится тем, кто любит детальность, ценит прозу жизни, как она есть, без прикрас, и задумывается над тем, чем он хочет заниматься на самом деле. Содержит нецензурную брань.
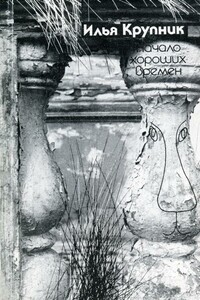
Читателя, знакомого с прозой Ильи Крупника начала 60-х годов — времени его дебюта, — ждет немалое удивление, столь разительно несхожа его прежняя жестко реалистическая манера с нынешней. Но хотя мир сегодняшнего И. Крупника можно назвать странным, ирреальным, фантастическим, он все равно остается миром современным, узнаваемым, пронизанным болью за человека, любовью и уважением к его духовному существованию, к творческому началу в будничной жизни самых обыкновенных людей.
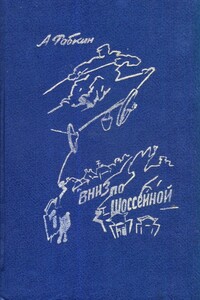
Абрам Рабкин. Вниз по Шоссейной. Нева, 1997, № 8На страницах повести «Вниз по Шоссейной» (сегодня это улица Бахарова) А. Рабкин воскресил ушедший в небытие мир довоенного Бобруйска. Он приглашает вернутся «туда, на Шоссейную, где старая липа, и сад, и двери открываются с легким надтреснутым звоном, похожим на удар старинных часов. Туда, где лопухи и лиловые вспышки колючек, и Годкин шьёт модные дамские пальто, а его красавицы дочери собираются на танцы. Чудесная улица, эта Шоссейная, и душа моя, измученная нахлынувшей болью, вновь и вновь припадает к ней.

Один человек с плохой репутацией попросил журналиста Максима Грязина о странном одолжении: использовать в статьях слово «блабериды». Несложная просьба имела последствия и закончилась журналистским расследованием причин высокой смертности в пригородном поселке Филино. Но чем больше копал Грязин, тем больше превращался из следователя в подследственного. Кто такие блабериды? Это не фантастические твари. Это мы с вами.

Взглянуть на жизнь человека «нечеловеческими» глазами… Узнать, что такое «человек», и действительно ли человеческий социум идет в нужном направлении… Думаете трудно? Нет! Ведь наша жизнь — игра! Игра с юмором, иронией и безграничным интересом ко всему новому!