Один человек - [58]
Настоящий английский поросёнок
земную жизньпройдя до половины,я очутилсяДанте
Из раннего детства мало что помню. Нет, если б я был Лев Толстой, который всё помнил о себе ещё с того самого момента, как его батюшка подкрался к Софье Андреевне с предложением… Хотя… Софья Андреевна здесь ни при чём. Точно ни при чём. Просто общее впечатление такое, что она его и… Но нет. Отчество-то у писателя было — Николаевич. Ну да я не Лев Толстой. Никто в меня не смотрелся как в зеркало. И мимо смотрели, и сквозь — всяко бывало, а так, чтобы революция в меня, как в… нет, этого не было. Если только драка какая… Но я отвлёкся. О детстве так о детстве. В памяти лоскутки какие-то. Жили в коммуналке. В трёхкомнатной квартире. У нас была одна комната, а у соседей две. У соседей, кроме двух комнат, была дочка Валя. Лет на пять меня старше. Или около того. А у соседей по этажу была тоже девочка и тоже Валя. Такого же возраста. Я потом подрос, и мы втроём дружили. Бегали по двору и ходили в кино. Грызли семечки. Вот самое первое воспоминание и связано с семечками. Я-то не помню, конечно. Мама рассказывала. Я лежал в своей коляске (не было у меня ещё кровати), в комнате. Грудничок был. Месяца три-четыре. А обе Вальки бегали вокруг. Мать им разрешила со мной поиграть. Ну, они играли, как могли. Со мной тогда какие игры? Пускал я себе и окружающим от избытка чувств пузыри и руками сучил. Валькам надоело передо мной трясти игрушками, и они в порыве чувств принялись кормить меня жареными семечками. Но чистили сами. На мои дёсны надёжи-то не было. Они, перед тем как, — во рту у меня пальцами пошарили — зубов не было ни разу. Так что лузгали они их сами. Мне оставалось только ими давиться. Но виду я не подал. То есть молчал, как партизан на допросе. Это дало Валькам основание утверждать, что ел я добровольно и даже с охотой. Это они потом маме рассказывали, когда она их застукала за моим кормлением. Плакали, каялись и рассказывали. Но это ещё не конец лоскутка. Потом промелькнуло ещё лет двадцать, и одна из Валек окончила институт и стала инженером. Пришла на завод работать. Где и её отец, и мой работали. Мой папа взял её к себе в отдел. И вот как-то раз горел план. Тогда такое время было — чуть что, и план начинал гореть. И такое веселье начиналось в дыму горящего плана… Тех, кто его поджигал, так, и так… и эдак тоже. Оргия, одним словом. Папин технологический отдел был в числе поджигателей. Собрал отец совещание, чтобы определить, как быть дальше. Само собой, тут же и директор, и председатель парткома, и портрет вождя на стене злорадно ухмыляется в тараканьи свои усы. Ответ держат все, а тех, кто не мог его держать, брали на поруки и держали всем коллективом вместе с ответом. Дошла очередь и до подруги моего детства. За какую-то она там гайку отвечала. Тьфу, а не гайка. И говорить не о чем. Но порядок есть порядок. И её отец строго спрашивает — доложи, мол, Валентина, как обстоят дела с такой-то гайкой? Почему ты допустила, что резьба на ней получилась левая, а не правая, в соответствии с чертежом и словами, которые я ещё на прошлой неделе говорил начальнику участка, токарю и даже его станку, чтоб им не дожить до аванса и замены машинного масла? Растерялась Валька… Задрожали губы у молодого специалиста, и начала она свой ответ главному технологу со слов: «Дядя Боря…». Тут упал занавес, графин со стола и папироса изо рта директора. Ну, потом всё хорошо кончилось. Даже и премию квартальную Вальке дали. Или тринадцатую зарплату. Тех подробностей я уж не помню. Я и этих-то не помню. Хорошо, что есть у кого спросить.
В раннем детстве я боялся двух вещей. Именно вещей. Первой вещью был большой плюшевый медведь, который страшно рычал. Это был подарок какого-то из родственников. Я им почти не играл, и он жил в изгнании, на шкафу. Пылился молча. Иногда, когда я капризничал и плохо себя вёл, то мне грозили, что медведь меня заберёт к себе. Попасть на шкаф мне хотелось, но жить с медведем… А ещё я боялся книжки «Три поросёнка». Очень мне было страшно за поросят. И за себя, конечно. Какой же ребёнок не отождествляет себя с поросёнком? Это сейчас нет нужды отождествлять, поскольку за тебя это делают все кому не лень, а тогда… Если бы я мог, то эту сказку сократил бы до одной, последней, страницы. Той, где всё хорошо кончается и от волка на картинке видны только сверкающие пятки. Но мне очень нравился каменный домик Наф-Нафа. А картинка с домиком была на предпоследней странице. Я смотрел на неё, на очаг из красных кирпичей, на котёл с кипящей водой, на кресло, в котором сидел Наф-Наф… и мечтал жить жизнью настоящего английского поросёнка. Изредка я быстро переворачивал страницы и с ужасом взглядывал на страшные картины разрушения домиков Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа. Моя поросячья душа мгновенно уносилась в пятки и там сладко замирала от ужаса. А через несколько секунд, перевернув страницу, я отдыхал душой в интерьерах домика Наф-Нафа. Ян сейчас хочу жить в таком домике. И продолжаю хотеть. Скажете, что это непозволительная роскошь — жить жизнью настоящего английского поросёнка?..
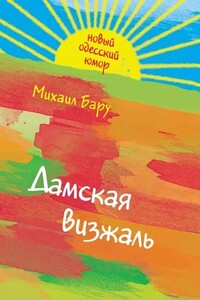
Перед вами неожиданная книга. Уж, казалось бы, с какими только жанрами литературного юмора вы в нашей серии не сталкивались! Рассказы, стихи, миниатюры… Практически все это есть и в книге Михаила Бару. Но при этом — исключительно свое, личное, ни на что не похожее. Тексты Бару удивительно изящны. И, главное, невероятно свежи. Причем свежи не только в смысле новизны стиля. Но и в том воздействии, которое они на тебя оказывают, в том легком интеллектуальном сквознячке, на котором, читая его прозу и стихи, ты вдруг себя с удовольствием обнаруживаешь… Совершенно непередаваемое ощущение! Можете убедиться…

Внимательному взгляду «понаехавшего» Михаила Бару видно во много раз больше, чем замыленному глазу взмыленного москвича, и, воплощенные в остроумные, ироничные зарисовки, наблюдения Бару открывают нам Москву с таких ракурсов, о которых мы, привыкшие к этому городу и незамечающие его, не могли даже подозревать. Родившимся, приехавшим навсегда или же просто навещающим столицу посвящается и рекомендуется.

«Тридцать третье марта, или Провинциальные записки» — «книга выходного дня. Ещё праздничного и отпускного… …я садился в машину, автобус, поезд или самолет и ехал в какой-нибудь маленький или не очень, или очень большой, но непременно провинциальный город. В глубинку, другими словами. Глубинку не в том смысле, что это глухомань какая-то, нет, а в том, что глубина, без которой не бывает ни реки настоящей, ни моря, ни даже океана. Я пишу о провинции, которая у меня в голове и которую я люблю».

Любить нашу родину по-настоящему, при этом проживая в самой ее середине (чтоб не сказать — глубине), — дело непростое, написала как-то Галина Юзефович об авторе, чью книгу вы держите сейчас в руках. И с каждым годом и с каждой изданной книгой эта мысль делается все более верной и — грустной?.. Михаил Бару родился в 1958 году, окончил МХТИ, работал в Пущино, защитил диссертацию и, несмотря на растущую популярность и убедительные тиражи, продолжает работать по специальности, любя химию, да и не слишком доверяя писательству как ремеслу, способному прокормить в наших пенатах. Если про Клода Моне можно сказать, что он пишет свет, про Михаила Бару можно сказать, что он пишет — тишину.

Эта книга о русской провинции. О той, в которую редко возят туристов или не возят их совсем. О путешествиях в маленькие и очень маленькие города с малознакомыми или вовсе незнакомыми названиями вроде Южи или Васильсурска, Солигалича или Горбатова. У каждого города своя неповторимая и захватывающая история с уникальными людьми, тайнами, летописями и подземными ходами.

Стилистически восходящие к японским хокку и танка поэтические миниатюры давно получили широкое распространение в России, но из пишущих в этой манере авторов мало кто имеет успех, сопоставимый с Михаилом Бару из Подмосковья. Его блистательные трех– и пятистишья складываются в исполненный любви к людям, природе, жизни лирический дневник, увлекательный и самоироничный.

Перед вами грустная, а порой, даже ужасающая история воспоминаний автора о реалиях белоруской армии, в которой ему «посчастливилось» побывать. Сюжет представлен в виде коротких, отрывистых заметок, охватывающих год службы в рядах вооружённых сил Республики Беларусь. Драма о переживаниях, раздумьях и злоключениях человека, оказавшегося в агрессивно-экстремальной среде.

Выпускник театрального института приезжает в свой первый театр. Мучительный вопрос: где граница между принципиальностью и компромиссом, жизнью и творчеством встает перед ним. Он заморочен женщинами. Друг попадает в психушку, любимая уходит, он близок к преступлению. Быть свободным — привилегия артиста. Живи моментом, упадет занавес, всё кончится, а сцена, глумясь, подмигивает желтым софитом, вдруг вспыхнув в его сознании, объятая пламенем, доставляя немыслимое наслаждение полыхающими кулисами.

Эта повесть или рассказ, или монолог — называйте, как хотите — не из тех, что дружелюбна к читателю. Она не отворит мягко ворота, окунув вас в пучины некой истории. Она, скорее, грубо толкнет вас в озеро и будет наблюдать, как вы плещетесь в попытках спастись. Перед глазами — пузырьки воздуха, что вы выдыхаете, принимая в легкие все новые и новые порции воды, увлекающей на дно…

Ник Уда — это попытка молодого и думающего человека найти свое место в обществе, которое само не знает своего места в мировой иерархии. Потерянный человек в потерянной стране на фоне вечных вопросов, политического и социального раздрая. Да еще и эта мистика…

Футуристические рассказы. «Безголосые» — оцифровка сознания. «Showmylife» — симулятор жизни. «Рубашка» — будущее одежды. «Красное внутри» — половой каннибализм. «Кабульский отель» — трехдневное путешествие непутевого фотографа в Кабул.

Книга Сергея Зенкина «Листки с электронной стены» — уникальная возможность для читателя поразмышлять о социально-политических событиях 2014—2016 годов, опираясь на опыт ученого-гуманитария. Собранные воедино посты автора, опубликованные в социальной сети Facebook, — это не просто калейдоскоп впечатлений, предположений и аргументов. Это попытка осмысления современности как феномена культуры, предпринятая известным филологом.