Один человек - [15]
Ногинский Ленин — один из самых несчастных в области. А всё потому, что постамент низкий и кепку в руке держит. Будь постамент повыше и кепка на голове — оно бы, может, и обошлось. А так — воруют кепку по ночам. Мало того — норовят вместо неё какую-нибудь дрянь в руку всунуть. Дед, мол, старый — хрен заметит, что держит. Он и не замечает. А утром как на лысину водрузит — мама дорогая… То тюбетейка, то бандана, то, прости господи, половинка бюстгальтера с кружевной каёмкой. А однажды какие-то умники кипу подсунули. Ильич, не глядя, поутру её напялил на лысину, прокартавил спросонок: «Товагищи!»… С тех пор к нему ни патриоты, ни наши, ни ваши, ни даже многие коммунисты — ни ногой. Только одна старушка ходит. Она живет неподалёку — на улице красных то ли текстильщиков, то ли литейщиков. Носит цветы со своего огорода. Старушка древняя — случается, что перья лука по ошибке в букет между гладиолусами засунет. Соседи её говорят… Но этим россказням верить никак нельзя. Сплетни одни. От тоски захолустной врут что ни попадя. Как только словами своими не давятся.
В каждом нашем провинциальном музее есть непременный набор экспонатов, без которых решительно невозможно его существование. В самом первом зале это трухлявый бивень мамонта. И в музеях самых южных губерний, куда мамонты не забредали даже по пьянке, такой экспонат имеет место быть и лежит у входа в макет землянки, обрамлённый россыпью кремниевых скребков и рубил по пальцам, которые местные археологи-любители во множестве изготовляют находят на своих огородах.
За бивнем идут позеленевшие бронзовые гвозди, найденные при рытье котлована под городские бани, каменные горошины бус величиной с грецкий орех, фибулы, фистулы, преамбулы, височные и годовые кольца древних славянок и понаехавших хазарок с половчанками. В той же витрине лежат обломки первых самогонных аппаратов глиняных горшков, чарок и турок, которые уже в те времена приезжали торговать к нам турецкой кожей, содранной с рабов, и дешёвыми золотыми цепочками из медной проволоки.
Перейдём, однако, в следующий зал, посвящённый татаро-монгольскому нашествию. Здесь и берестяные грамоты с первыми нецензурными выражениями, принесёнными нам завоевателями, и диорама героической обороны города, похожая как две капли медовухи на оборону Козельска или Твери. В углу диорамы мизансцена — двое наших скребут вражеского лазутчика, переодетого русским, до тех пор, пока не обнаружится татарин. Как же так, воскликнете вы, — да в эти дремучие архангельские или вятские леса не токмо татары с монголами, но даже и евреи со скрипками никогда не забредали! Что ж из того? Наша история не есть камень, лежащий дураком у дороги, но полноводная река, которую мы то перегородим плотиной, отчего она затопит все дома в округе, то построим над ней мост и станем с него плевать на воду, то станем поворачивать её вспять, то решим переплыть, как три мудреца в одном тазу, и заплывём… к примеру, в архангельские леса. Да и вообще — вы бы ещё спросили, что делать и кто виноват. Не в нашей привычке — задавать вопросы, на которые, как всякому у нас известно, нет и не может быть ответов, а те, у кого они есть, пусть бы и предлагали нам свои ответы, но мы у них не возьмём, даже и даром. В нашей привычке — почесать в затылке, вздохнуть послать всех на и побрести дальше.
А дальше — нотариально заверенная копия указа Ивана Грозного о взимании с города налога на мобильную ямщицкую связь, батоги, которые государь и великий князь изволил обломать о спину местного воеводы, написанная на полях приказной книги окаянная дума думного дьяка, сосланного в эти края за мздоимство не по чину, кошель с серебром одного из сподвижников Стеньки Разина, подобранный им на большой дороге у проезжающего, и неподъёмные амбарные замки от неподъёмных купеческих дочерей.
От петровских времён остались нам пушки, отлитые в первый, но не в последний раз из церковных колоколов, кучки ядер, портреты генерал-фельдмаршалов с красными лицами, заржавевшие шпаги, похожие на муравейные кучи макеты железоделательных заводов и адмиралтейские якоря, которые можно найти даже в самой что ни на есть сухопутной российской глухомани. Петр Алексеевич, как известно, куда ни заезжал — так сразу, ещё и не обрив бород заспанным боярам, приказывал строить флот. И строили. Где фрегат, где галеру, а где обстоятельства не позволяли — там ботик. Хоть щепку под бумажным парусом, но по ручью пускали, а уж потом, потной от страха рукой, писали царю отчёт о лесах, порубленных на этот ботик, о сотканных вёрстах холста на паруса и просили, просили денег на новое кораблестроение. И вот ещё что — от того времени остались в наших музеях такие огромные кубки и даже рюмки для вина, в которых и большому кораблю было большое плаванье.
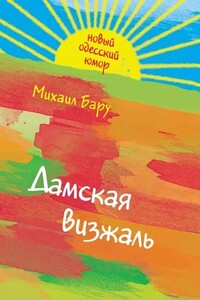
Перед вами неожиданная книга. Уж, казалось бы, с какими только жанрами литературного юмора вы в нашей серии не сталкивались! Рассказы, стихи, миниатюры… Практически все это есть и в книге Михаила Бару. Но при этом — исключительно свое, личное, ни на что не похожее. Тексты Бару удивительно изящны. И, главное, невероятно свежи. Причем свежи не только в смысле новизны стиля. Но и в том воздействии, которое они на тебя оказывают, в том легком интеллектуальном сквознячке, на котором, читая его прозу и стихи, ты вдруг себя с удовольствием обнаруживаешь… Совершенно непередаваемое ощущение! Можете убедиться…

Кувшиново, Солигалич, Пестяки, Осташков, Грязовец, Красные Баки… Для Михаила Бару путешествия по медвежьим углам Московской, Ивановской, Вологодской, Тверской, Ярославской, Нижегородской и Костромской областей – не только исследование противоречивой истории России, но и возможность увидеть сложившийся за пределами столиц образ нашей страны, где за покосившимся настоящим отчетливо видны следы прошлого. Возможность свободного перехода между временами делает это пространство почти сказочным, и автор-путешественник увлеченно ведет хронику метаморфоз, которые то и дело происходят не только с жителями этих мест, но и с ним самим.

Внимательному взгляду «понаехавшего» Михаила Бару видно во много раз больше, чем замыленному глазу взмыленного москвича, и, воплощенные в остроумные, ироничные зарисовки, наблюдения Бару открывают нам Москву с таких ракурсов, о которых мы, привыкшие к этому городу и незамечающие его, не могли даже подозревать. Родившимся, приехавшим навсегда или же просто навещающим столицу посвящается и рекомендуется.

Эта книга о русской провинции. О той, в которую редко возят туристов или не возят их совсем. О путешествиях в маленькие и очень маленькие города с малознакомыми или вовсе незнакомыми названиями вроде Южи или Васильсурска, Солигалича или Горбатова. У каждого города своя неповторимая и захватывающая история с уникальными людьми, тайнами, летописями и подземными ходами.

Любить нашу родину по-настоящему, при этом проживая в самой ее середине (чтоб не сказать — глубине), — дело непростое, написала как-то Галина Юзефович об авторе, чью книгу вы держите сейчас в руках. И с каждым годом и с каждой изданной книгой эта мысль делается все более верной и — грустной?.. Михаил Бару родился в 1958 году, окончил МХТИ, работал в Пущино, защитил диссертацию и, несмотря на растущую популярность и убедительные тиражи, продолжает работать по специальности, любя химию, да и не слишком доверяя писательству как ремеслу, способному прокормить в наших пенатах. Если про Клода Моне можно сказать, что он пишет свет, про Михаила Бару можно сказать, что он пишет — тишину.

Стилистически восходящие к японским хокку и танка поэтические миниатюры давно получили широкое распространение в России, но из пишущих в этой манере авторов мало кто имеет успех, сопоставимый с Михаилом Бару из Подмосковья. Его блистательные трех– и пятистишья складываются в исполненный любви к людям, природе, жизни лирический дневник, увлекательный и самоироничный.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.
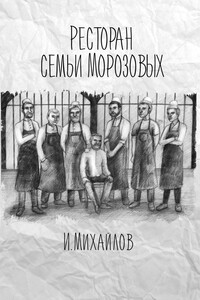
Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.

ББК 84. Р7 84(2Рос=Рус)6 П 58 В. Попов Запомните нас такими. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. — 288 с. ISBN 5-94214-058-8 «Запомните нас такими» — это улыбка шириной в сорок лет. Известный петербургский прозаик, мастер гротеска, Валерий Попов, начинает свои веселые мемуары с воспоминаний о встречах с друзьями-гениями в начале шестидесятых, затем идут едкие байки о монстрах застоя, и заканчивает он убийственным эссе об идолах современности. Любимый прием Попова — гротеск: превращение ужасного в смешное. Книга так же включает повесть «Свободное плавание» — о некоторых забавных странностях петербургской жизни. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Администрации Санкт-Петербурга © Валерий Попов, 2003 © Издательство журнала «Звезда», 2003 © Сергей Шараев, худож.