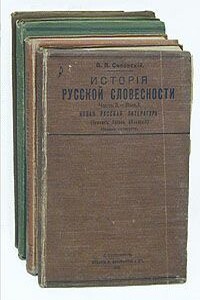Очерки по социологии культуры - [10]
Известно, что вы преподаете в университете.
Примерно с девяносто пятого года мы с Гудковым стали немножко преподавать в РГГУ — курс по социологии литературы. Сначала была Школа современного искусства. Искались свободные формы преподавания — что-то вроде творческих мастерских. С нами рядом, в одном наборе, вели мастерские Лев Рубинштейн, Д. А. Пригов, Екатерина Деготь, Юрий Арабов. А у нас — социология литературы и искусства. Мы попробовали преподавать год, попробовали два, а потом нас позвали в Институт европейских культур при РГГУ. Институт европейских культур создан при участии Германии и Франции. Ректор РГГУ Ю. Н. Афанасьев много сделал для организации гуманитарного университета — с конвертируемым дипломом, стажировками студентов за границей, приглашениями зарубежных преподавателей. Часть замыслов реализовалась, часть нет. Состоялось уже три выпуска студентов, защищено несколько кандидатских. Там есть вполне обнадеживающий народ, который, кстати, теперь активно публикуется в «НЛО».
Не возникало ли желания перейти на университетскую работу?
Я не думаю, что способен стать университетским преподавателем, все-таки нужна серьезная академическая школа. У меня такой нет. Но, как ни странно, в последние годы я почувствовал некоторое удовольствие от того, что рассказываю ребятам про социологию и вроде нахожу какой-то отклик. Интересно смотреть, как начинают думать они сами. Однако мы работаем в неклассической форме и в неклассическом учебном заведении. Там и отношения складываются особые, и предметы преподаются особые. Мы читаем лекции вдвоем с Гудковым. Конечно, бывают случаи, когда Лев Дмитриевич занят или я занят. Когда вместе не можем, кто-то один отдувается. Но мы уже привыкли преподавать вдвоем. Видимо, мы непривычны к академической рутине, нам надо постоянно друг дружку поддерживать, иначе мы начинаем засыпать, а главное, начинают засыпать наши студенты. Когда мы друг друга выручаем, что-то начинает раскручиваться, получаться. Может быть, в конце концов, после «Советского человека — 2», сядем за книжку по социологии культуры, в голове она почти готова.
Повлияло ли на вас какое-либо направление в социальной теории?
Одно время я был вовлечен в структурный функционализм. Года полтора-два довольно много читал Парсонса и другие работы, связанные с этим направлением (Леви, Шилз, Беллах, Айзенштадт, французские функционалисты, переводчики и интерпретаторы Парсонса). Здесь сказалось сильное влияние Левады, который в своем секторе, еще в ИКСИ, очень много сделал для перевода Парсонса на русский язык. Переводили Галя Беляева, Леонид Седов и другие сотрудники левадовского сектора, вышли два ротапринтных сборника, многое осталось в машинописных томах (часть этого недавно издана в томе «О структуре социального действия», в других книгах). Но мое отношение к структурному функционализму было скорее отстраненное. Чем больше читал, тем больше меня это охлаждало. Самую общую рамку, идею социального института, идею выраженности функции в структурных формах, я примерно уяснил, и это нашло явное выражение в нашей с Гудковым работе по социологии литературы. Во всяком случае, литература рассматривалась нами именно как социальный институт. Приходилось кое-что читать и по феноменологической социологии, прежде всего Альфреда Шютца, это иногда было очень остроумно, но в целом меня совсем не привлекало. Очень много я читал по социальной и культурной антропологии — от Малиновского и Редфилда до Виктора Тернера и Клиффорда Гирца, по «антропологии современной жизни» — французских постструктуралистов Оже, Маффезоли, «Систему вещей» Бодрийяра. У Гирца в культурной антропологии имеется постановка чрезвычайно интересной проблемы — бытование пластов традиционных верований в модерной ситуации (а проблема модерности, как и контрмодернизации, меня всегда интересовала и с годами интересует все больше). Индонезийский таксист работает в огромном современном городе, но каждое утро ставит под капот машины блюдечко с рисом, потому что надо принести жертву богу. В известном смысле все мы живем в таком мире. Мне казалось, в культурной антропологии открывается необычная, но важная для социологии культуры проблематика и оттуда можно кое-что «потянуть». Оказывается, не так уж много. Поскольку я никогда систематически не учился социологии, то брал отовсюду — в одном месте, в другом, как многие мои сверстники и коллеги. У некоторых из нас есть последовательная, твердая школа. Вот Гудков: он собственными силами, да еще в глухие годы, от начала до конца прошел неокантианскую социологию. У меня же более эклектическая, более любительская картинка…
Не возникало ли желания бросить это все и уехать подальше?
Нет. Хотя иногда складывались какие-то странные ситуации, связанные с работой за границей. Жизнь вообще протекала странно, на нескольких этажах одновременно. Как-то раз, в середине 70-х, был фантастический план у моих старших друзей и коллег вырастить из меня переводчика-унгариста, то есть заслать меня на несколько лет в Венгрию — учиться венгерскому языку и культуре, чтобы потом я приехал в Советский Союз и на хорошем, качественном уровне переводил бы венгерскую словесность. Но, поскольку все системы были бюрократизированы, надо было решать этот вопрос через Союз писателей, а Союз писателей меня не знал и знать не хотел. Это с одной стороны, а с другой стороны, он имел своих молодых функционеров, которые туда и поехали за милую душу. Что они там делали, не переводя ни строчки с венгерского, как говорится, не нашего ума дело, но поехать поехали. В общем, могла быть и такая — заграничная — карьера…

Сборник «Религиозные практики в современной России» включает в себя работы российских и французских религиоведов, антропологов, социологов и этнографов, посвященные различным формам повседневного поведения жителей современной России в связи с их религиозными верованиями и религиозным самосознанием. Авторов статей, рассматривающих быт различных религиозных общин и функционирование различных религиозных культов, объединяет внимание не к декларативной, а к практической стороне религии, которое позволяет им нарисовать реальную картину религиозной жизни постсоветской России.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.
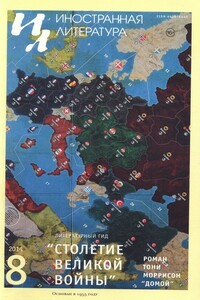
Подборка стихов английских, итальянских, немецких, венгерских, польских поэтов, посвященная Первой мировой войне.

Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Ее авторы — коллектив ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы. В книге впервые рассматриваются все основные теории и направления в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях. Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных сферах — политической, интеллектуальной и институциональной — авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.

Смысловой центр книги известного социолога культуры Бориса Дубина – идея классики, роль ее в становлении литературы как одного из важных институтов современного общества. Рассматриваются как механизмы поддержания авторитета классики в литературоведении, критике, обучении, книгоиздании, присуждении премий и др., так и борьба с ней, в том числе через выдвижение авангарда и формирование массовой словесности. Вошедшие в книгу статьи показывают трансформации идеи классики в прошлом и в наши дни, обсуждают подходы к их профессиональному анализу методами социологии культуры.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.