Очерки бурсы - [25]
– Я… – голос его пресекся…
– Что ты? – спокойным, но глубоко сосредоточенно-злым голосом спросил его Батька.
– Я… сегодня… именинник…
– Так с ангелом! – Октава его упала на две ноты ниже, а сердце свирепело, и в нем развивались кровожадность и зверские инстинкты… Страшен он был в эту минуту.
– Я… – заговорил страдалец, – был в церкви…
– Доброе дело!
– Я потому и не успел выучить урока… – погасающим голосом продолжал Элпаха, видя, как с мертвенно бледного лица смотрели на него неподвижные, блестящие сосредоточенной ненавистью глаза…
– Ты думаешь, что радуется твой ангел на небесах?
Элпаха молчал; в его сердце пробивалась слабая надежда, что его не накажут, потому что Батькин гнев иногда истощался в нравоучениях, которыми увлекался он на полчаса и более. Элпаха ждал, что будет.
– Он плачет о твоей лености.
Элпаха ни жив, ни мертв.
– И ты должен плакать. Поди сюда.
Элпаха ни с места.
– Поди же сюда! – тем же ровным, спокойным голосом повторил Батька.
Элпаха подошел к нему.
– Встань тут, около меня, на колени.
Дрожащий Элпаха встал.
– Твой ангел плачет, и ты заплачешь. Положи свою голову ко мне на колени.
Тот медленно исполнил это, не понимая, что с ним хотят делать. Но вот он сильно вскрикнул и поднял голову, за которую ухватился руками.
– Лежи, лежи! – сказал ему Батька.
Отчего вскрикнул Элпаха? А оттого, что Батька взял щепоть волос его, сильной рукой вздернул их кверху, вырвал с корнем и, постепенно разводя свои красивые пальцы, сдувал с них волоса и продолжал дуть, пока они летели в воздухе.
– Лежи, лежи! – повторил Батька.
Элпаха с воем опустил голову на колени его, как на эшафот…
Батька взял вторую щепоть Элпахиных волос, и опять выдернул их с корнем, и опять пустил их по воздуху.
– Простите, ради бога! – взмолился страдалец.
– Лежи, лежи! – отвечал Батька. Что-то сатанинское было в его ровных октавах…
Еще медленнее и хладнокровнее он повторил ту же операцию в третий раз.
Элпаха рыдал мучительно.
– Теперь поди встань на колени посреди класса! – сказал Батька, когда улетел последний волос Элпахи и пропал в воздухе.
Батька потом долго сидел, понуря голову. Не почувствовал ли он угрызений совести?
– Стой на коленях целый год!
Значит, совесть его была спокойна. Батько имел обыкновение ставить на колени на целый год, на целую треть, на месяц: как его класс, так и становись. Беспощадный человек!
В продолжение всего класса Батька разбойничал. Чего-чего он не придумывал: заставлял кланяться печке, целовать розги, сек и солил сеченного, одно слово – артист в своем деле, да под пьяную еще руку.
Но все-таки приходится сказать, что большая часть товарищества уважала его по тем же причинам, по каким и Долбежина, и только меньшинство ненавидело его и боялось. В описываемый нами период бурсы нравственный уровень товарищества и начальства был почти одинаков. Но впоследствии увидим, что в товариществе и в лучшей половине начальства развились иные начала. Что описываю теперь – скверно, но что дальше, то лучше становилось товарищество и добрее люди из начальства. И жаль и досадно мне, что некоторые писатели заявили, будто я все исчерпал относительно бурсы в «Зимнем вечере бурсы». Уже в следующем очерке вы увидите добрые задатки для будущего в жизни бурсаков, хотя и там будет много гадкого и гадкого. Бурса будет в моих очерках, как и на деле было, постепенно улучшаться, – только позвольте описать так, как было, не прибавляя, не убавляя. Всякое дело строится не сразу, а должно пройти многие фазы развития. Еще очерков восемь, и бурса, даст бог, выяснится окончательно. Если придется ограничиться только этими двумя очерками – «Зимний вечер в бурсе» и «Бурсацкие типы», – то будет очень жаль, потому что читатель тогда не получит полного понятия о том, что такое бурса, и потому относительно составит о ней ложное представление.
1862
Женихи бурсы. Очерк третий
Наконец Аксютка доигрался с Лобовым до скверной шутки. Заглянула бурса в столовую, «щей негодных похлебала и опять в свой класс идет». Один лишь Аксютка щелкает зубами.
Как бы то ни было, все более или менее подкрепились; один лишь Аксютка щелкает зубами от голода, или, по туземному выражению, у него по брюху девятый вал ходит, в брюхе зорю бьют. Положение Аксютки никогда не было так беспомощно, как теперь, и в моральном и в животном отношении. Он, потешаясь над Лобовым, по обыкновению своему, лишь только попал в Камчатку, как опять стал появляться в нотате с пяткАми, то есть самыми лучшими баллами.
Это только сбесило учителя: «Ты, животное, – сказал ему Лобов, – потешаешься надо мною: когда тебя порют, у тебя в нотате нули; когда шлют в Камчатку – пятки? Знаю я тебя: ты добиваешься того, чтобы опять перейти на первую парту, чтобы потом снова бесить меня нулями? Врешь же! Не бывать тебе на первой парте, и пока у тебя снова не будут нули, до тех пор не ходи в столовую». Аксютка клялся и божился, что он раскаялся и теперь будет учиться постоянно. Лобов ничего слышать не хотел. «Не надо твоего ученья, – сказал он, – сиди в Камчатке». Аксюткино самолюбие было сильно задето, и, раздувая ноздри, он думал: «посмотрим, чья возьмет!». И в нотате его были отличные баллы; но Лобов каждый раз говорил ему: «и сегодня не жри!».

Повесть «Молотов», продолжение «Мещанского счастья», репрезентирует героя спустя 10 лет, за это время Молотов узнает, чего стоит независимость и разочаровывается во многом, хотя его переполняет гордость, что он ничем никому не обязан.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Николай Герасимович Помяловский. 1835 — 1863.Повесть написана в 1860 году. В 1861 году опубликована во втором номере журнала «Современник».Печатается по изданию: Н. Г. Помяловский. Повести. М., 1973.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
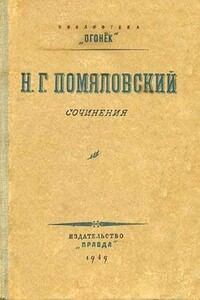
У Тарантова родился сын. Дали ему имя Вукол. Вукол не обещал ничего красивого в своей особе: голова у него была большая, нос плоский, уши маленькие, туловище несоразмерно велико, а ножки коротенькие…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.