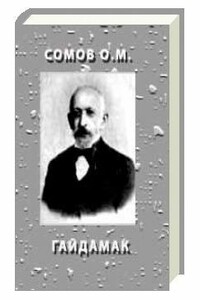Орест Михайлович Сомов
Сказка о Никите Вдовиниче
Начинается сказка от сивки, от бурки, от вещей каурки; рассказывается не сзади, а спереди, не как дядя Селиван тулуп надевал. А эта сказка мною не выдумана, из старых лык не выплетена и заново шелком не выстрочена: мне ее по летним дням да по осенним ночам рассказывал Савка-Журавка долгоног, железный нос.
Савка-Журавка по двору ходит, черным глазом поводит, с ноги на ногу переступает, долгую шею через плетень перегибает, острым носом друга и недруга допекает. А как крыльями встрепенется да звонким голосом озовется: "кур-лы-курлы!" - так у всякого и ушки на макушке, и слюнка изо рта потечет... Савка-Журавка голосную песню затягивает, умную речь заговаривает и такую сказку рассказывает... курлы-курлы!
Во славном городе во Чухломе жила-была старушка горемычная, вдова человека посадского, а имя ей Улита Минеевна. Муж ее Авдей Федулов, не тем покойник-свет будь помянут! большой был гуляка: торг повести да на счетах раскинуть не его было дело; а пиры пировать, да именины справлять - его подавай. Так и все свои животы прогулял да пропил, а не в добрый час и его самого подняли мертвого в царевом кружале под лавкою. Бедная вдова после его смерти обливала горючими слезами не столько могилу своего друга сердечного, сколько свое вдовье платье и сиротские недоимки. Не было у нее, что называется, чем собаки из двора выманить; а которых крох не растерял покойный ее сожитель, и те пошли по его же душе, на похороны да на поминки. Худо быть человеку семейному горьким пьяницей: и перед богом грешит, и людей смешит, и чужой век заедает.
Не на радость остался и сынок бедной вдове горемычной, единое ее детище, Никита: и тот по отцу пошел. Пить не пришла еще ему пора, потому что после отца он остался мо-лоденек, годов о двенадцати; зато к работе его, бывало, не присадишь. Мать бедная перебивалась кое-как своими трудами, из того кормила его и одевала; а он только с утра до ночи рыскал по улицам да играл в бабки с чужими ребятами. Этого дела, нечего сказать, был он мастер; а как, по пословице, всякое дело мастера боится, то и бабки словно его боялись и слушались. Не выискивалось еще молодца, кто б обыграл Никиту Вдовинича: такое в насмешку дали ему на улице прозвание вместо Никиты Авдеича.
Никитино уменье не полюбилось соседним ребятам, которых он день при дне дочиста обыгрывал, так что они не могли у себя напастись бабок. Не раз они щипали Вдовинича за его удачу и однажды стакнулись ворваться всей гурьбой к нему в дом и отъемом отнять у него все бабки. Шепнул ли кто Никите, сам ли он догадался, - только он как-то об этом спроведал. "Постой же! - молвил он сам про себя.- Я упрячу мои бабки в такое место, куда из этих сорванцов ни один не посмеет просунуть нос". Сказано и сделано: как наступила ночь, Никита Вдовинич собрал все свои бабки, склал их в запол и снес на кладбище. Там отыскал он могилу своего отца и принялся рыть в ней яму, чтобы туда спрятать любимую свою потеху до поры до времени. Видно, Никита, хоть и слыл дурачком и служил посмешищем всему соседнему миру, а был-таки себе на уме: небось не стал же рыться в чужой могиле! Он смекнул, что и после смерти свой своему поневоле друг.
Вот как он раскапывал землю, вдруг послышался ему голос из могилы: "Кто тут?" Никита не оробел и смело ответил: "Я, батюшка!" - "Сын мой любезный, дитя мое милое! тяжко мне под сырой землей! - простонал ему тот же голос.- А еще мне тяжеле оттого, что тебя с матерью, по грехам моим, покинул при недостатках. Слушай же: я знаю, что тебя вовсе не тянет к работе; ты весь в меня, и личиком и станком, и разумом и умом. Я тебе помогу, детище мое желанное, и вызволю тебя из бедности; только приходи по три ночи сюда, ко мне на могилу, в глухую полночь, за час - за два до первых петухов. Что бы здесь ни деялось, не робей; станут играть в бабки - играй, только старайся весь кон сбивать и все бабки к себе забирать. Теперь же покамест ступай себе с богом! прощай!"
Никита смекнул делом, в какую честную компанию звал его родной батюшка и с какими игроками должно ему было тянуться; однако ж как малой не трус он вздумал пойти наудалую и отведать своего счастья. Вот, пришедши домой, молвил он своей матери, Улите Минеевне: "Благослови, государыня матушка, на доброе дело: меня зовут лавочники по три ночи стеречь лавок, а сулят за то гривну медью, да хлеба вволю, да новые рукавицы". Улита Минеевна была рада-радешенька, что бог надоумил ее детище жить на белом свете трудовою копейкою; она чуть не прослезилась от доброй вести. Матери за благословеньем не в ларец ходить: не раздумывая, не разгадывая, благословила Улита Минеевна своего Никиту и отпустила его с крестом и молитвой. Только он, вместо лавок, поплелся на кладбище, раскидывая умом-разумом, что-то из этого будет.
Вот и прилег он на отцовой могилке, ни шкнет, ни чихнет и ни ухом поведет. Не спится ему, правду сказать: да ведь батюшка родимый не за сном же и звал его туда. Долго ли, коротко ли было дело, только вдруг подул и пронесся полуночный ветерок по кладбищу и запрыгали огоньки над могилами, словно клады из-под земли выскакивали морочить люд православный, либо затейник какой, стоя на кладбище, сеял по нем гнилушкой. Вдовиничу послышалось, что под землею мертвец мертвеца спросил: "Пора?", а тот ему ответил: "Пора!" И пошла трескотня по могилам: каждый мертвец упирался ногами и руками в гроб, сшибал долой крышку вместе с земляной насыпью и выходил на белый свет в белом саване. И все они сходились на поляну перед кладбищенской часовней, здоровались, кланялись друг другу, будто люди путные из миру крещеного. Никита Вдовинич все лежал по-прежнему и смотрел на такие предивные диковинки; вдруг его невесть что-то отбросило: он скатился с могилы вместе с ворохом земли, и перед ним как лист перед травой очутился его батюшка Авдей Федулович. "Сын мой любезный, дитя мое милое! - возговорил он детищу своему желанному. - Слушай в оба, а не в полтора, что я тебе говорить буду. Наши честные покойники в эту пору встают да от скуки потешаются в бабки; не робей, играй с ними. Если в игре будешь удачлив, так и в житье будешь счастлив и талантлив; а нет - на себя пеняй. Помни же, сын мой любезный, дитя мое милое: что ни есть на кону - все сбивай, ничего не оставляй; особливо в третью ночь почтись и весь последний кон сорви, - не то с тебя сорвут твою буйную головушку. Пуще всего, не робей. Теперь пойдем, благословясь".