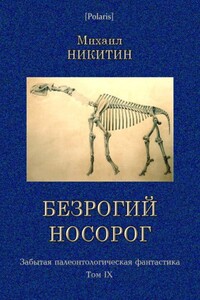— Послушайте, Гризель. Когда вы будете покупать очередной завод, попросите продать вам серьги с камнями не из бутылочного стекла, а хотя бы из чего-то похожего на самоцветы.
— Сударь! Это у меня театральные серьги. Для сцены. Такие заметнее публике…
— Пусть будет так, Гризель, а рваные и ржавые кружева вы тоже объясните бутафорией?
Гризель, сидевшая положив ногу на ногу, села прямо и одернула юбку.
— Чего вы добиваетесь?
— Я хочу сохранить вам свободное передвижение по империи, а до этого купить у вас завод, в котором вам не удастся сделать и одного гвоздя, если вы не впряжетесь с вашим… Я не знаю, в каких вы отношениях с ним… Если он и вы не впряжетесь в конный привод.
Гризель притихла. Она, кажется, постарела лет на пять в эти две-три минуты. А Штильмейстер делал ход за ходом:
— Вас ваши же друзья уличат в вымогательстве. В спаивании Клавдия Лукича. В шантаже… Вас уличат по многим статьям и параграфам и присудят вам столько лет, что из вашей жизни ничего не останется на престарелые годы. Присяжные вам не поверят, что вы захотели стать заводчицей. В суде присяжных есть и фабриканты. Они умеют смотреть в корень и ниже его.
— А сколько бы вы предложили мне за мой завод?..
— За ваш? Назначает цену продающий.
— Я посоветуюсь с Михеем Ивановичем…
— Его, кажется, трудно будет найти. Крысы первыми убегают с тонущего корабля… Завтра я вас жду в девять утра.
Никогда не следует предрешать развязки, как это сделал Вениамин Викторович Строганов. Он предсказывал, что Штильмейстер не заплатит Гризели и пяти рублей. А он уплатил ей уже пятьсот. И когда она, рыдая, размазывала плохой грим и клялась памятью матери: «Я Клавдию Лукичу вручила наличными тысячу двести пятьдесят рублей и простила долги…» — Штильмейстер поверил и сказал:
— Я вам плачу тысячу двести пятьдесят, оплачиваю дорогу и все расходы по поездке в Шальву, с почетом провожаю вас на орловских рысаках до станции. Прикажу вас нарядить в наших «новых модах», устрою для вас в «Веселом лужке» концерт. В цирке вам петь будет затруднительно. А вы подпишите мне купчую на ту сумму, какую вы ухитрились вписать в купчую и принудить Клавдия Лукича подписать ее.
— Хорошо, — покорно согласилась Гризель. — А в обещанные вами наряды войдет беличья шуба?
— Хоть три, — ответил Штильмейстер и пригласил Гризель, назвав Агриппиной Никитичной, в экипаж, чтобы отправиться к нотариусу.
На следующий день вечером орловские рысаки в серых яблоках, запряженные в карету, умчали на станцию Гризель, где она была усажена в купе первого класса и тотчас же свела знакомство с немолодым купцом в касторовой поддевке. Она кучеру дала рубль, другой — носильщику.
Теперь она могла это делать, зная, что набивает себе цену, платя рубли при купце.
Через два дня вернулся из Петербурга Платон. Телеграмма о возвращении завода разошлась с ним. Его встретил Штильмейстер, приехавший на той же паре орловских.
— Ну как, Георгий Генрихович?
— Я так и знал, что телеграмма минует вас… Купил.
— За сколько?
Штильмейстер указал на спину кучера и сказал:
— За столько же, за сколько купила завод госпожа Фаломеева.
Дома же за ужином разговор был другим.
— Я полагаю, Платон Лукич, полагает и Флегонт Борисович, что бухгалтерски все должно быть безупречно. Мы акционерное общество, и мы не можем объяснять каждому акционеру семейную подноготную. Клавдий Лукич продал завод за девятьсот семьдесят пять тысяч, за столько же мы купили его у госпожи Фаломеевой.
— Но ведь, Георгий…
— И «но» и «ведь» остается при ваших расчетах с вашим братом, а бухгалтерия ему будет начислять прибыли с его пая, который уменьшился на девятьсот и семьдесят тысяч, выплаченных акционерным обществом мадемаузель Гризель…
Глаза Платона и Штильмейстера встретились. Встретились не очень надолго.
— Но ведь, Георгий Генрихович, вы купили завод за тысячу двести пятьдесят рублей плюс шуба и тряпки… словом, не более чем за две тысячи.
— Если вы, дорогой Платон Лукич, хотите простить брата, то в это не может вмешиваться никто…
Платон отпил из бокала морс, затем принялся рассматривать свои руки, чтобы продлить паузу, ответил:
— Хорошо, Георгий Генрихович. Я это запишу в блокнот своей памяти… Клавдий промотает все. И когда он промотается, мне придется его содержать подобающим образом. Пусть эта разница в суммах будет неизвестным для него резервом. А сейчас ему следует перевести по телеграфу хотя бы что-то из положенных ему прибылей. Он, я полагаю, по уши в долгах. Пусть он подлец, нарушивший клятву на могиле отца, все же он его сын…
Не Штильмейстер, а его ненависть к Клавдию заметила:
— Калерия Зоиловна на прошлой неделе перевела ему пять тысяч рублей.
— Это не мое дело и, смею думать, не ваше, Георгий Генрихович. У сына и матери свои, не касающиеся всех других отношения…