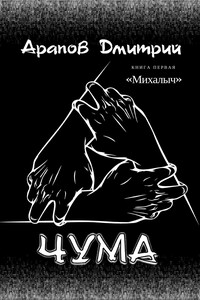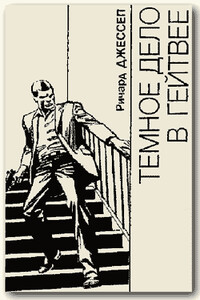Я больше не хочу знать, что сделала или чего не сделала Ноа в своей жизни до встречи с тобой, до того, как отняла тебя у меня. У нее хватило времени исписать эти сотни страниц, сидя в камере. Может, она писала в темноте или даже сидя на унитазе. Но я не хочу знать, как ужасно она чувствовала себя, отнимая тебя у меня. Я не хочу отвечать Сьюзен и Джорджу Райга. Я не хочу бередить рану, которая, наконец, начала закрываться. Моя кровь больше не свертывается. Я больше не могу рисковать. И не буду.
Потому я намерена похоронить ее апологию или ее слезы, ее последние карающие слова, ее злобные слова-паразиты и весь ее потенциал в земле вместе с этими письмами. С тобой. Это она их хоронит, не я. Это у нее был револьвер, это она его зарядила, это она выстрелила в тебя. Это не я отказалась говорить с губернатором. Не по своему выбору я оставила затею с прошением о помиловании. Ничто из этого не изменит твоего нынешнего положения. Ничто не изменит того, что сделала Ноа, даже без меня. И не имеет значения, что она сказала, что написала, – ведь я по-прежнему здесь. Я сижу на своей кухне и смотрю на эти коробку и браслет.
Этот браслет с запиской. Безжалостная просьба об одолжении для кого-то другого. Это письмо адресовано мне, но предназначается для другого. Может, она и права. Я должна его передать. Я хочу его передать. Я хочу передать письмо и браслет этим наследникам, но не могу. Я не могу взять трубку и позвонить родителям Персефоны. Я не могу заглянуть в слова Ноа. Поэтому я просто беру браслет и позволяю ему обтечь мое запястье каждым утром после того, как просыпаюсь, стараясь застегнуть застежку свободной рукой. Иногда он застегивается с первой попытки, иногда нет. Но каждый день он со мной, когда я веду машину, когда иду на работу, когда поднимаюсь по лестнице окружного суда, когда жду в набитом людьми лифте, когда выступаю на встрече перед сорока бизнесменами в платиновых запонках и пошитых на заказ костюмах, жаждущих моего совета, – этот браслет всегда сомкнут на моем запястье.
Всегда твоя и только твоя,
Мама