Образ человеческий - [4]
Артамон слушал и можно было подумать, что впечатление, которое производили на него эти слова, было более всего похоже на впечатление от очень красивой и печальной музыки: они вызывали в нем и боль, и наслаждение, и близость слез, и боязнь, что эта мука скоро кончится, что опять все будет, как всегда.
— Служу до пота-крови, — мрачно говорил он и вдруг валился ей в ноги.
— Артамон, что ты! — испуганно вскрикивала она.
Он сейчас же поднимался и ударял себя кулаком в грудь.
— Богу снесу, — дрожащими губами произносил он. — Ему, батюшке. Ему одному.
И он исчезал так же стремительно, как появлялся.
И только изредка бывал весел. В таких случаях кругом него собиралась вся дворня, а он кривлялся, пел песни, ходил на четвереньках. Дворня хохотала, слышались просьбы представить то то, то другое.
Тогда на выручку прибегала старуха горничная и с негодованием разгоняла зрителей.
— Потеха вам? — стыдила она их. — Образ-то человеческий! Ведь образ человеческий!
И ее понимали, и действительно стыдились, и расходились молча и покорно.
Зато на те несколько дней, когда приезжал молодой барин, Артамон забирал себя крепко в руки и не пил. Готовил он в эти дни так торжественно, точно священнодействовал, и, отпуская блюдо, тихонько крестился. Для этого случая он выбирал фартук и колпак из лучших и гладил собственноручно.
— Или пойдешь барину представляться? — спрашивали его.
Он молчал. И никогда никто не мог понять, почему он так боялся барина и так благоговел перед ним: из-за того ли, что он носил его старые пиджаки и фраки, из-за того ли, что он щедро получал от него на чай, или из-за того, что тот никогда не сказал ему ни слова, не проявил к нему никакого чувства и был ему так же чужд и непонятен, как если бы жил на другой планете.
«А ведь раньше простой был, как Костенька, — удивлялся он. — И ведь сынок нашей барыни».
Свое воздержание Артамон ставил себе в большую заслугу и, когда барин уезжал, вознаграждал себя за него в полной мере, причем уже не стыдился, а пил гордо, с сознанием своего права, так что даже позволял себе роскошь пошуметь и поскандалить.
— Сам барин мне на водку пожаловал, — говорил он. — Разве он не понимает? Он все понимает! «Вижу, — говорит, — Артамоша, жизнь твоя не легка есть. Вижу, — говорит, — старание твое и вижу страдание твое. Все вижу! Гордость, — говорит, — в тебе велика, Артамоша. Пышной ты жизни человек, и сердце в тебе большое и тяжелое. Нельзя, — говорит, — тебе не пить. Посему жалую тебе пять целковых на водку».
— «Все вижу и все понимаю», — продолжал фантазировать Артамон и часто плакал от умиления.
— Вот барин! Вот образованный-то человек! Наскрозь все видит, а не то что…
Осенью Артамон уходил в город.
— И не являйся больше! — решительно говорила ему Александра Ивановна. — Ни за что больше не возьму! Слышишь! Надоел ты мне так, Артамон, что сил моих нет.
— Не приду-с! — мрачно обещал Артамон. — Думаю в городе ресторацию открыть.
Исчезал он не сразу, а постепенно: сперва уходил из усадьбы на село, из села переселялся на станцию.
— Не ушел еще? — спрашивала Александра Ивановна.
— Кажись, теперь совсем, — отвечали ей. — В колокол ударил.
Не ударив в колокол, Артамон не уезжал. Он говорил и думал про себя, что он пышной жизни человек, и иногда подтверждал это на деле. Одинокий, протяжный удар извещал население, что Артамон покидает этот край. Покидал он его чаще всего в самом жалком виде, таким же оборванцем, каким и приходил.
И в одну весну Артамон не явился. Уже давно прилетели жаворонки, и земля стала просыхать на пригорочках, и солнышко начало припекать, и верба стояла в серебряном уборе, точно в цветах.
— Не пришел Артамон? — спрашивала Александра Ивановна.
— Не видать что-то, — отвечала старуха горничная.
— Придет наказание мое! — говорила барыня и вздыхала.
Солнышко выгнало зеленую травку, и на тополях набухли почки. Вернулись грачи в старые гнезда, и скворцы скрипели в скворешнике.
— Не приходил Артамон? — крикнула с крыльца Александра Ивановна.
— Никак нет-с! — отозвался кучер.
Ночью прошла гроза с ливнем. На пруду кричали лягушки, а в саду защелкал первый соловей.
— Знаешь, — говорила барыня своей старой горничной, — я думаю, уж жив ли Артамон?
— Смерть придет, не спросится, — сказала старуха.
— Знаешь, я думаю, — продолжала барыня, — либо его в живых нет, либо… уж и не знаю.
— Жив был бы, пришел бы, — спокойно сказала горничная. — Вернее всего помер. Может быть, простудился, а может быть, и убили.
— А я вот все думаю, отчего я ему никогда не сказала ни одного доброго слова? Бранила я его много, а доброго слова никогда не сказала.
— Он сам себя губил, — рассудительно сказала горничная. — Пил очень. Вам это было не особенно приятно. Да.
— Ну, конечно, неприятно. Но я ему никогда не сказала, что я его жалею. А помнишь, как он нашего Костю любил?
— Да ведь он, нельзя сказать… Он работал, — сказала старуха. — Попросишь его о чем, он с превеликим удовольствием. Только он себя губил. А образ у него был человеческий.
Александра Ивановна вздохнула.
— Не знает он, что я его жалею, — сказала она. — Вот эта наша раздражительность… Все дурное спешила сказать, а доброе-то… не успела.
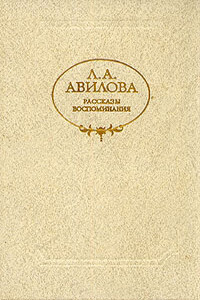
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.
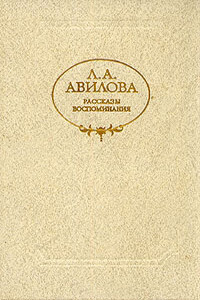
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Творчество Лидии Авиловой (1864–1943) развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А. П. Чехова. В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80 — 90-х годов, рассказывающие о премьерах чеховских пьес, о встречах автора с Л. Толстым и М. Горьким. Сборник дополняют отрывки из дневников писательницы и ее известная, неоднократно переиздававшаяся повесть-воспоминание «А. П. Чехов в моей жизни».
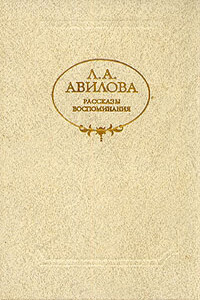
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.

Русская писательница и мемуаристка Лидия Алексеевна Авилова (урожд. Страхова) родилась 3(15) июня 1864 г. в имении Клекотки Епифанского уезда Тульской губернии, в небогатой дворянской семье. В 1882 г. окончила гимназию в г. Москве. В 1887 г. вышла замуж и переехала из Москвы в Петербург, где началась ее литературная деятельность. В доме редактора и издателя «Петербургской газеты» С.Н. Худекова, мужа сестры, познакомилась со многими известными литераторами. С 1890 г. рассказы писательницы публикуются в петербургских газетах и журґналах.

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.

Научно-фантастический роман «Наследники», созданный известным в эмиграции писателем В. Я. Ирецким (1882–1936) — это и история невероятной попытки изменить течение Гольфстрима, и драматическое повествование о жизни многих поколений датской семьи, прошедшей под знаком одержимости Гольфстримом и «роковых страстей». Роман «Наследники», переиздающийся впервые, продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций фантастических и приключенческих произведений писателей русской эмиграции. Издание дополнено рецензиями П.

Знаменитый писатель Глебов, оставив в Москве трёх своих любовниц, уезжает с четвёртой любовницей в Европу. В вагоне первого класса их ждёт упоительная ночь любви.
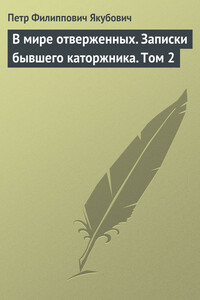
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы.
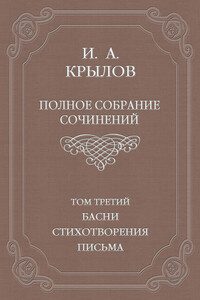
Настоящее издание Полного собрания сочинений великого русского писателя-баснописца Ивана Андреевича Крылова осуществляется по постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 15 июля 1944 г. При жизни И.А. Крылова собрания его сочинений не издавалось. Многие прозаические произведения, пьесы и стихотворения оставались затерянными в периодических изданиях конца XVIII века. Многократно печатались лишь сборники его басен. Было предпринято несколько попыток издать Полное собрание сочинений, однако достигнуть этой полноты не удавалось в силу ряда причин.Настоящее собрание сочинений Крылова включает все его художественные произведения, переводы и письма.
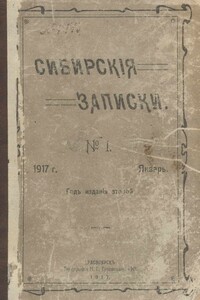
Рассказ о случайном столкновении зимой 1906 года в маленьком сибирском городке двух юношей-подпольщиков с офицером из свиты генерала – начальника карательной экспедиции.Журнал «Сибирские записки», I, 1917 г.