Образ человеческий - [3]
Тогда он бросал все и бежал, и, судя по его испуганному лицу и дико вытаращенным глазам, можно было подумать, что случилось самое ужасное и непоправимое несчастье.
Но вот плоды его трудов начинали выясняться, и, чем крупнее были неудачи, тем стремительнее он падал духом. К этому времени у него, по всей вероятности, была даже потребность упасть духом, и едва ли бы он был доволен, если бы не нашел для этого достаточного повода. Но, к его счастью, парники почти никогда не оправдывали его ожиданий, все, что должно было быть готово, запаздывало, и бодрое, радостное настроение Артамона переходило в гнетущую, тяжелую тоску.
— Теперь запьет, — говорил дворник. — Это у него перед водкой тоска. Шабаш!
Старая барыня Александра Ивановна упорно старалась узнать, откуда Артамон брал деньги на пьянство; старалась она также устроить так, чтобы Артамону неоткуда было взять водки, и казалось ей, что ни денег, ни водки не могло быть, а Артамон все-таки был пьян.
— Как! Опять Артамон? — с неодобрительным удивлением спрашивала невестка, приехавшая с детьми из Петербурга.
— Разве никогда не прогонят этого человека, который всегда пьян? — пожимала плечами француженка. — Без него, значит, никак нельзя обойтись?
Александра Ивановна старалась не замечать этих вопросов и делала вид, что она даже вообще ничего не замечает и что все обстоит благополучно. Если обед был испорчен, она говорила вскользь о том, что плита давно не в исправности и что непременно надо позвать печника. Если вдруг оказывалось, что на огороде нет самых необходимых овощей, она находила это вполне естественным, так как погода стояла или слишком жаркая, или слишком холодная, или залил дождь, или, от суши, появился червь. На вид она была совершенно искренной и спокойной, и на вид и невестка и француженка тоже были спокойны, молча выслушивая ее объяснения; но на самом деле было совершенно иначе.
— Это какой-то пунктик, этот Артамон! — с злой досадой думала невестка. — Он скоро будет нас голодом морить! Он нам на шею сядет! Александра Ивановна, кажется, предпочитает выжить нас, только бы не отказать ему.
— Вы не думаете, что дети подвергаются опасности? — спрашивала ее француженка. — Пьяный человек! Разве можно знать?
Но бесконечно больший гнев на Артамона кипел в груди спокойной и ничего не замечающей Александры Ивановны. Этот гнев был иногда так велик и мучителен, что ей казалось возможным ударить его собственноручно, выгнать его из усадьбы без гроша или послать за урядником и приказать ему запереть пьяного на сутки «в холодную».
Боясь быть слишком жестокой, она избегала в этом настроении встречи с Артамоном и просила не пускать его к ней, если бы он пришел за каким-либо делом.
— Видеть его не могу! — говорила она старухе горничной, от которой у нее не было тайн.
— Да ведь он, нельзя сказать, он работает, — вступалась за него горничная.
— Он в суп сахару вместо соли посыпал! — чуть не плача, говорила Александра Ивановна.
— Ошибки с кем не бывает! А он ничего. Сейчас посуду чистит. Конечно, не трезвый. Уж как станет плакать и жене письмо писать, значит, не трезвый. Акулька у него письмо стащила, и в людской Степан разбирал. «Феклуша моя, — пишет, — Феклуша, сердце мое, вспомни, как мы с тобой стояли и золотые венцы над нами держали». Уж так-то складно!
Горничная отвертывалась и вытирала глаза.
— А Костеньку нашего как он жалеет, — продолжала она. — Намедни, пьян-пьян, а пробрался в кусты к нему под окошко, да потихоньку от француженки первых ягодок земляники ему передал. Еще никто ее не видел, а Артамон Костеньке нашел. И птичек он для него ловит, и палочки вырезает, и корзиночки плетет. Не допускают его к нему, а он в кустах засядет, ждет. Если Костенька ему что прикажет, то он рад, рад!
— Ах, наказание мое! — вздыхала Александра Ивановна. — Пусть Акуля приглядывает за ним, когда он готовит. Да не докладывайте вы за столом, чего нет; а нет, так и раздобыть можно, к Авсеевым, что ли, дослать.
Насколько барыня избегала встречаться с Артамоном, настолько сам Артамон искал случая попасться на глаза барыне. Кажется, его постоянно томило опасение, что она сердится на него, что отношение ее к нему изменилось, и он стремился или рассеять этот страх, или удостовериться в его основательности.
— Сердится на меня барыня? — спрашивал он.
— Мало того, что сердится, расчет тебе готов. Собирайся! — отвечали ему.
Он никогда не мог привыкнуть к этой шутке.
Руки его опускались, колени слабели, и выпученные глаза принимали такое выражение ужаса, будто ему только что объявили смертный приговор.
Через несколько минут он уже мчался разыскивать Александру Ивановну и пугал ее своим неожиданным, стремительным появлением.
— Реестрик пожалуйте! — говорил он, протягивая листок бумаги и жадно и жалко заглядывая ей в глаза.
— Какой реестрик?
— Всей посуды реестрик: сковород, кастрюль. Зачем мне?
— Для порядку-с.
Она брала, просматривала для виду и качала головой.
— Эх, Артамон! — говорила она. — Несносный ты, глупый, пропащий человек! А я верила, что ты не будешь больше пить; я тебя простила. А ты что делаешь? Что? Неблагодарный ты, бессовестный, бессердечный. Стыда у тебя никакого нет и ничего нет. Надоел ты мне и противен ты мне до крайности…
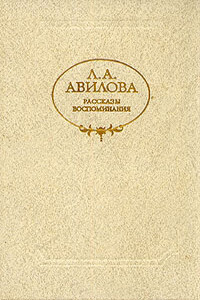
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.
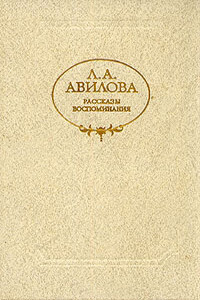
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Творчество Лидии Авиловой (1864–1943) развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А. П. Чехова. В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80 — 90-х годов, рассказывающие о премьерах чеховских пьес, о встречах автора с Л. Толстым и М. Горьким. Сборник дополняют отрывки из дневников писательницы и ее известная, неоднократно переиздававшаяся повесть-воспоминание «А. П. Чехов в моей жизни».
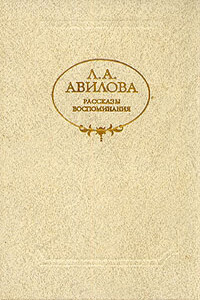
Творчество Лидии Авиловой развивалось под благотворным влиянием передовых русских писателей — ее современников, и прежде всего А.П.Чехова.В книгу вошли избранные рассказы писательницы, а также воспоминания, воссоздающие литературную среду 80-90-х годов.

Русская писательница и мемуаристка Лидия Алексеевна Авилова (урожд. Страхова) родилась 3(15) июня 1864 г. в имении Клекотки Епифанского уезда Тульской губернии, в небогатой дворянской семье. В 1882 г. окончила гимназию в г. Москве. В 1887 г. вышла замуж и переехала из Москвы в Петербург, где началась ее литературная деятельность. В доме редактора и издателя «Петербургской газеты» С.Н. Худекова, мужа сестры, познакомилась со многими известными литераторами. С 1890 г. рассказы писательницы публикуются в петербургских газетах и журґналах.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.

Научно-фантастический роман «Наследники», созданный известным в эмиграции писателем В. Я. Ирецким (1882–1936) — это и история невероятной попытки изменить течение Гольфстрима, и драматическое повествование о жизни многих поколений датской семьи, прошедшей под знаком одержимости Гольфстримом и «роковых страстей». Роман «Наследники», переиздающийся впервые, продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций фантастических и приключенческих произведений писателей русской эмиграции. Издание дополнено рецензиями П.
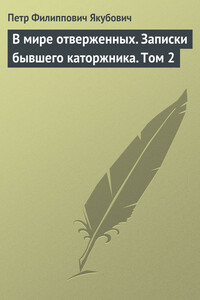
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы.
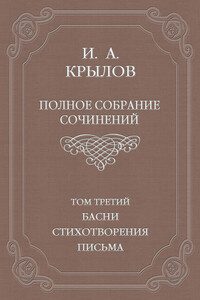
Настоящее издание Полного собрания сочинений великого русского писателя-баснописца Ивана Андреевича Крылова осуществляется по постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 15 июля 1944 г. При жизни И.А. Крылова собрания его сочинений не издавалось. Многие прозаические произведения, пьесы и стихотворения оставались затерянными в периодических изданиях конца XVIII века. Многократно печатались лишь сборники его басен. Было предпринято несколько попыток издать Полное собрание сочинений, однако достигнуть этой полноты не удавалось в силу ряда причин.Настоящее собрание сочинений Крылова включает все его художественные произведения, переводы и письма.
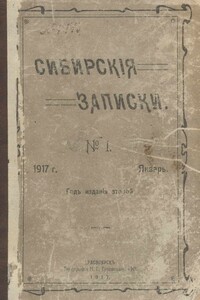
Рассказ о случайном столкновении зимой 1906 года в маленьком сибирском городке двух юношей-подпольщиков с офицером из свиты генерала – начальника карательной экспедиции.Журнал «Сибирские записки», I, 1917 г.