Облава - [5]
Со словами Элмаза Шамана совпадают мысли другого деревенского философа, носящего четническую форму, — Пашко Поповича. Предавая погибших партизан земле, Пашко Попович представляет себя на пахоте, на пахоте непривычной, необыкновенной, ибо «и семена, которые туда опустят, и плоды, которые из них вырастут, совсем иные. Семена эти, дающие плоды человеческой доброты, душевности, чести и милосердия, должны пустить глубокие корни…». Размышления этих персонажей романа воспринимаются как свидетельство о том, что героическая гибель коммунистов пустила глубокие корни в сознании народа, и как ответ на те мысли о народе, которыми в последние часы жизни обменивались Иван Видрич и Душан Зачанин.
В «Облаве» много действующих лиц — в этом состоит одно из отличий этого романа М. Лалича от других, обычно посвященных одному герою, — и каждое из действующих лиц романа по-своему комментирует события. Но главный вывод предстоит сделать самому читателю. «Облава» — это роман, обязывающий к размышлению. Произведения такого рода — они все чаще появляются в современной прозе, драматургии, кино — предполагают участие читателя или зрителя в происходящем, они настойчиво требуют, чтобы читатель или зритель включился в действие, определил свою позицию. Сама форма романа «Облава» служит тому, чтобы возбудить активность читательского восприятия: завязка события вынесена за пределы романа, показан лишь один полный драматизма финал, открывающий большой простор для мыслей. В этом обращении к сознанию читателя таится большое уважение и доверие.
Н. Яковлева
ОБЛАВА
НИКТО НИКОМУ НЕ ВЕРИТ
Находившись до устали вдоль речек, Пашко Попович свернул к шоссе на Брезу и оглянулся на покрытые мглой вершины над селениями Меджа и Утрга. Снегу выпало чуть не по колено, — наверное, последний раз в эту зиму; он покрыл разбросанные редкие кровли, сровнял нивы и пастбища; видно только кладбище, вернее — высокие скелеты дубов над беспорядочным нагромождением каменных надгробий. И это напомнило Пашко, как с конца лета и до самой рождественской резни мусульман на мостах, где у камелька в караульных помещениях дежурила милиция, болтали о дьяволе, который якобы появлялся в окрестностях, блеял, как заблудший козленок, или спускался в село и заказывал гробы. На досуге сочинялись всевозможные небылицы — преимущественно о том, как худо приходилось тому, кто пытался его изловить: дьявол заманивал смельчака все глубже в теснины, скатывал на него камни, давал подножки, мутил разум и доводил до того, что он рад был хоть как-нибудь от него отделаться и уйти подобру-поздорову. Не всем это удавалось. Больше всего досталось, согласно рассказам, старому Чаушу, жителю этих мест, — дьявол целую ночь скакал на нем по кустам да оврагам вдоль реки; старик потерял шапку и опанки;[2] шапка отыскалась спустя недели две на кладбище, когда его, умершего от страха и усталости, принесли хоронить.
Небылиц напридумывали уйму, и трудно было понять, действительно ли то был дьявол или просто чьи-то проказы, — однако по ссорам, возникавшим из-за этого, Пашко наконец пришел к убеждению, что тут не обошлось без нечистой силы, которая вечно всюду путается. Путается, рассуждал он, и принимает разные облики. Иной раз точно начисто сгинет, а глядишь, через год-другой, когда люди уже вообразят, будто ее вовсе нет, снова появится. Вспомнив давнишние истории с привидениями, почерпнутые дедами из седой старины, Пашко незаметно перенесся в прошлое и, позабыв о всякой дьявольщине, принялся размышлять о своем братстве Поповичей из Ластоваца и Старчева и о себе.
Зовутся они Поповичи, однако вот уже сто лет никто из братства не был ни попом, ни монахом, ни пономарем. Церковь далеко, ходят в нее одни старики да старухи, и то раз в год — причаститься. Древний поповский корень, по которому они получили имя, зачах и кончился еще во времена владыки Раде[3] мудрым попом Николой. С тех пор ничего поповского — даже лукавства и красноречия — не замечалось у потомков попов, в большинстве своем плечистых, круглолицых и твердоголовых. Как правило, они были русые, медлительные в речах и скорые на руку, охочие до водки и баб, часто болели сердцем, отчего в старости скоропостижно умирали; братство давало хороших пахарей, грубых, неотесанных чабанов, верных ятаков, укрывавших всякого рода бунтарей и разбойников, были они мастаками врачевать раны, дергать зубы и кастрировать поросят, пасечниками и знахарями. В последнее время некоторые показали себя отличными слесарями, шоферами, футболистами, а один даже стал портным и коммунистом. Искусные ко всему, что делается руками, они, казалось, избегали всего, что утомляет голову; дети их сызмалу не учились, а вырастая, не жалели об этом; книги их не интересовали, постов и молитв они не любили, и глубокомыслием никто из них не страдал.
Лишь он один не такой. Даже по внешнему виду отличается от Поповичей: высок и костист, как дядья Маркетичи из Любы, и волосы у него, прежде чем поседели, были темные. От Поповичей он унаследовал только густые брови да синие глаза, которые в молодости резко выделялись на темно-коричневом скуластом лице. Это несоответствие постепенно сглаживалось и с годами исчезло совсем, но раздоры с родичами не удалось сгладить и времени.
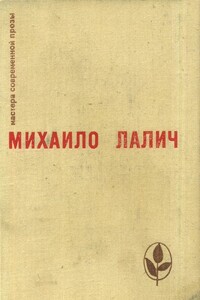
Михаило Лалич — один из крупнейших писателей современной Югославии, лауреат многих литературных премий, хорошо известен советским читателям. На русский язык переведены его романы «Свадьба», «Лелейская гора», «Облава».Лалич посвятил свое творчество теме войны и борьбы против фашизма, прославляя героизм и мужество черногорского народа.В книгу включены роман «Разрыв» (1955) и рассказы разных лет.
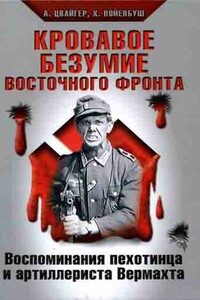
Когда авторов этой книги отправили на Восточный фронт, они были абсолютно уверены в скорой победе Третьего Рейха. Убежденные нацисты, воспитанники Гитлерюгенда, они не сомневались в «военном гении фюрера» и собственном интеллектуальном превосходстве над «низшими расами». Они верили в выдающиеся умственные способности своих командиров, разумность и продуманность стратегии Вермахта…Чудовищная реальность войны перевернула все их представления, разрушила все иллюзии и едва не свела с ума. Молодые солдаты с головой окунулись в кровавое Wahnsinn (безумие) Восточного фронта: бешеная ярость боев, сумасшедшая жестокость сослуживцев, больше похожая на буйное помешательство, истерическая храбрость и свойственная лишь душевнобольным нечувствительность к боли, одержимость навязчивым нацистским бредом, всеобщее помрачение ума… Посреди этой бойни, этой эпидемии фронтового бешенства чудом было не только выжить, но и сохранить душевное здоровье…Авторам данной книги не довелось встретиться на передовой: один был пехотинцем, другой артиллеристом, одного война мотала от северо-западного фронта до Польши, другому пришлось пройти через Курскую дугу, ад под Черкассами и Минский котел, — объединяет их лишь одно: общее восприятие войны как кровавого безумия, в которое они оказались вовлечены по воле их бесноватого фюрера…
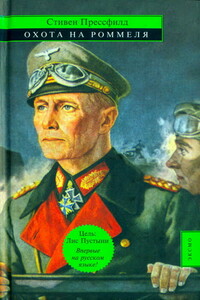
Ричмонд Чэпмен — обычный солдат Второй мировой, и в то же время судьба его уникальна. Литератор и романтик, он добровольцем идет в армию и оказывается в Северной Африке в числе английских коммандос, задачей которых являются тайные операции в тылу врага. Рейды через пески и выжженные зноем горы без связи, иногда без воды, почти без боеприпасов и продовольствия… там выжить — уже подвиг. Однако Чэп и его боевые товарищи не только выживают, но и уничтожают склады и аэродромы немцев, нанося им ощутимые потери.
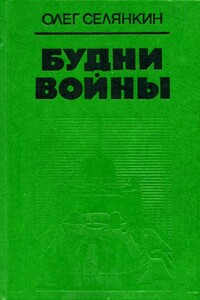
Новая книга пермского писателя-фронтовика продолжает тему Великой Отечественной войны, представленную в его творчестве романами «Школа победителей», «Вперед, гвардия!», «Костры партизанские» и др. Рядовые участники войны, их подвиги, беды и радости в центре внимания автора.
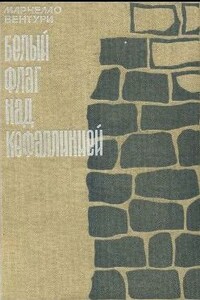
8 сентября 1943 года, правительство Бадольо, сменившее свергнутое фашистское правительство, подписало акт безоговорочной капитуляции Италии перед союзными силами. Командование немецкого гарнизона острова отдало тогда дивизии «Аккуи», размещенной на Кефаллинии, приказ сложить оружие и сдаться в плен. Однако солдаты и офицеры дивизии «Аккуи», несмотря на мучительные сомнения и медлительность своего командования, оказали немцам вооруженное сопротивление, зная при этом наперед, что противник, имея превосходство в авиации, в конце концов сломит их сопротивление.
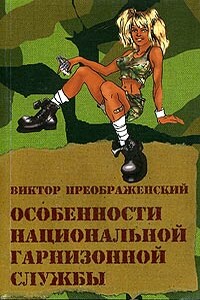
Служба в армии — священный долг и почетная обязанность или утомительная повинность и бесцельно прожитые годы? Свой собственный — однозначно заинтересованный, порой философски глубокий, а иногда исполненный тонкой иронии и искрометного юмора — ответ на этот вопрос предлагает автор сборника «Особенности национальной гарнизонной службы», знающий армейскую жизнь не понаслышке, а, что называется, изнутри. Создавая внешне разрозненные во времени и пространстве рассказы о собственной службе в качестве рядового, сержанта и офицера, В.
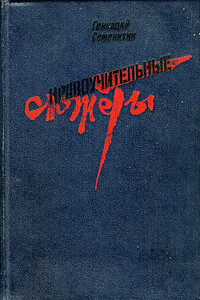
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Историю русского военнопленного Григория Папроткина, казненного немецким командованием, составляющую сюжет «Спора об унтере Грише», писатель еще до создания этого романа положил в основу своей неопубликованной пьесы, над которой работал в 1917–1921 годах.Роман о Грише — роман антивоенный, и среди немецких художественных произведений, посвященных первой мировой войне, он занял почетное место. Передовая критика проявила большой интерес к этому произведению, которое сразу же принесло Арнольду Цвейгу широкую известность у него на родине и в других странах.«Спор об унтере Грише» выделяется принципиальностью и глубиной своей тематики, обширностью замысла, искусством психологического анализа, свежестью чувства, пластичностью изображения людей и природы, крепким и острым сюжетом, свободным, однако, от авантюрных и детективных прикрас, на которые могло бы соблазнить полное приключений бегство унтера Гриши из лагеря и судебные интриги, сплетающиеся вокруг дела о беглом военнопленном…

Действие романа «Дело» происходит в атмосфере университетской жизни Кембриджа с ее сложившимися консервативными традициями, со сложной иерархией ученого руководства колледжами.Молодой ученый Дональд Говард обвинен в научном подлоге и по решению суда старейшин исключен из числа преподавателей университета. Одна из важных фотографий, содержавшаяся в его труде, который обеспечил ему получение научной степени, оказалась поддельной. Его попытки оправдаться только окончательно отталкивают от Говарда руководителей университета.
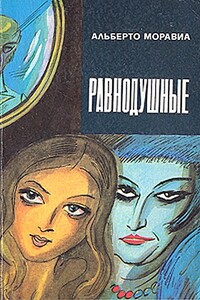
«Равнодушные» — первый роман крупнейшего итальянского прозаика Альберто Моравиа. В этой книге ярко проявились особенности Моравиа-романиста: тонкий психологизм, безжалостная критика буржуазного общества. Герои книги — представители римского «высшего общества» эпохи становления фашизма, тяжело переживающие свое одиночество и пустоту существования.Италия, двадцатые годы XX в.Три дня из жизни пятерых людей: немолодой дамы, Мариаграции, хозяйки приходящей в упадок виллы, ее детей, Микеле и Карлы, Лео, давнего любовника Мариаграции, Лизы, ее приятельницы.
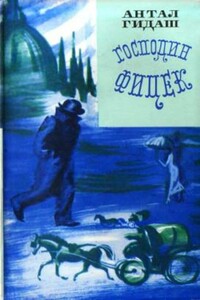
В романе известного венгерского писателя Антала Гидаша дана широкая картина жизни Венгрии в начале XX века. В центре внимания писателя — судьба неимущих рабочих, батраков, крестьян. Роман впервые опубликован на русском языке в 1936 году.