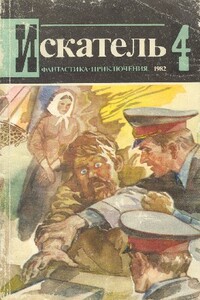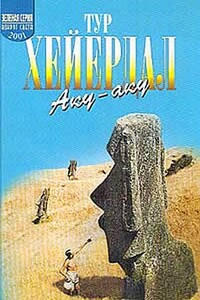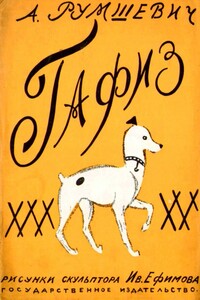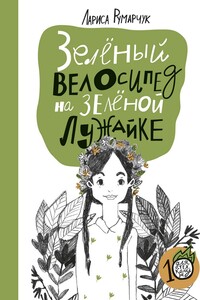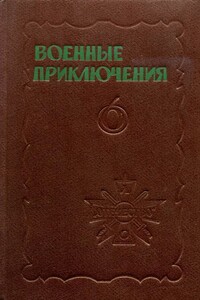Прожил он на траулере полтора месяца, переловив почти всех мух и муравьев, и Пурш так привык к добродушному зверьку, что ревновал его к людям. Когда кто-нибудь забирал Гришку из моей каюты «денек поохотиться на гадов-мурашей», кот, испытывая беспокойство, разыскивал зверька по всему судну, а найдя, хватал его и уносил к себе. Облизывая его, Пурш напевал хамелеону песни, и им обоим было хорошо. Наверно, эта странная привязанность Пурша к зверьку из джунглей продолжалась бы и дальше, но на подходе к бразильскому порту Ресифи, который нам предстояло посетить, Гришка вдруг исчез. Что произошло с ним? Сорвался ли из открытого иллюминатора в океан? Или унесла его таинственная ночная птица, подхватив с палубы?
Пурш мучительно переживал пропажу Гришки, а потом нам пришлось завернуть в Ресифи, и там произошло событие, потрясшее нашего кота не меньше, чем первое знакомство с сушей.
К тому времени, как мы пришли в Ресифи, Пуршу было уже шесть месяцев. Да, наш рейс был длительным, и из маленького, пушистого комочка Пурш превратился в крупного, поджарого и сильного кота. Он уже многое познал, многое увидел и был невозмутим, как и полагается быть настоящему много поплававшему моряку. Тем не менее порой Пурш впадал в странное беспокойство и по нескольку дней не прикасался к пище. Он не знал, что томило его, какие силы и желания пробуждались в его душе. Он часто подходил ко мне, торкался лобастой головой в мою ладонь и, жмуря зеленые удивленные глаза, начинал что-то петь, но тут же смолкал, как бы прислушиваясь к самому себе: «О чем это я?..» Странная, тревожная песня жила в душе кота, но он никак не мог подобрать к ней слов, потому что не знал еще, о чем же будет эта песня.
…Шуршаще скрежетнув бортом, траулер замер у пирса, и босоногие мальчишки, весело крича, поволокли петлю швартовного троса на чугунную тумбу.
Зевнув, Пурш равнодушно глядел с верхнего мостика вниз. Но вдруг вскочил и весь напрягся. Там, на пирсе, выгнув спину и внимательно глядя вверх, стояла совершенно черная, с желтыми, как две новенькие монетки, глазами тоненькая и стройная кошечка.
«Мя-аа-ау…» — неуверенно окликнул ее Пурш, просунув голову между леерами.
«Мя-аа-а», — нежно отозвалась кошка и потерлась о швартовную тумбу. Нервно подрыгивая хвостом, она повертела хорошенькой головкой и сощурила плутоватые глаза.
«Мяу, — охрипшим от волнения голосом произнес Пурш и поглядел на меня. — Мяу!»
— Это портовая кошка, — сказал я ему. — Ох и опасны они для моряка, слишком долго пробывшего в океане! Берегись, Пурш.
«Мя-аа-а…» — послышалось опять с пирса, и кошка, повалившись на каменные плиты, принялась кататься в пыли, призывая и Пурша принять участие в этом приятном занятии.
— Стой, Пурш! Куда ты? — крикнул я, но было уже поздно.
Легкой рыжей тенью, пренебрегая трапами, Пурш спрыгнул на пирс, упруго приземлился на крепкие лапы и, подойдя к кошке, потянулся к ней. Грациозно вскочив, та прикоснулась к его носу своим, жмуря глаза, что-то промурлыкала и, оглядываясь через плечо, направилась к штабелю толстых бревен, среди которых виднелись таинственные проходы.
Напрасно я звал Пурша. Кот даже не повернул головы. И это было печально.
…Пурш не появлялся ровно неделю. Ровно столько дней, сколько мы простояли в Ресифи. Настал час отхода. Мы с Колей метались по пирсу и сорванными голосами окликали кота. Порой на наш зов выбегали бездомные портовые коты и кошки, но ни черной красотки, ни Пурша не было.
Ну, вот и все. Прощай, Бразилия, прощай, Пурш.
Убрали сходни.
Под выкрики Петровича матросы выволокли на палубу сброшенные со швартовных тумб тросы и уложили их. Запыхтев, черно-белый портовый катер поволок траулер от берега, и между бортом и пирсом появилась щель.
Прощай, Пурш! Мне будет чертовски недоставать тебя и твоих чудесных песен. Кому-то ты будешь их теперь петь?..
«Мяа-а-у-уу!» — донесся вдруг отчаянный вопль.
— Пурш! Пурш! — закричал я. — Эй, на буксире! Стоп машина!
Сопровождаемый черной кошкой, Пурш с бешеной скоростью несся по сырому после обильного дождя пирсу. Он подбежал к его краю, оттолкнулся, пролетел через воду и упал на планшир. Какое-то мгновение казалось, что он сорвется, но кот удержался и, не замечая моих протянутых рук, лихо взбежал на верхний мостик.
Там он сидел до ночи. Тощий, испачканный варом, с глубокой царапиной поперек носа, с заплывшим глазом. Я попытался приласкать его, успокоить, но кот, сердито боднувшись, не принял ласки. Не мигая, он глядел в сторону удаляющегося берега и порой вскрикивал грудным, вибрирующим голосом.
Кот пришел в каюту под утро. Вспрыгнул на койку, улегся в моих ногах и задумчиво запел песню. Теперь он знал, о чем ему перед заходом в Ресифи так хотелось петь. Он пел о разлуке. И еще пел о том, что как бы ни были сильны его чувства, он, Пурш, никогда не предаст своих друзей. Ведь он же моряк.
Наш долгий рейс продолжался. Вдоль побережья Южной Америки мы спустились на юг и наконец достигли тех широт, которые еще со времен парусного флота известны у бывалых моряков под названием «ревущие» — такие тут постоянные сильные, «ревущие» ветры.