Обещание на заре - [64]
Как я узнал впоследствии, и завтра и послезавтра, каждый вечер с шести вечера до двух ночи малышка-доброволица дожидалась в баре «Чинтра» своего унтера-летуна.
Еще и сегодня я задумываюсь порой: не прошел ли я, сам того не ведая, мимо величайшей в своей жизни любви?
Несколько дней спустя я вычитал имя своего симпатяги менеера в списке жертв авиакатастрофы в районе Йоханнесбурга, и это доказывает, что никогда не удается надежно поместить капиталы.
Мой отпуск подходил к концу. Я провел еще одну ночь в кресле клиники Сент-Антуан, и утром, едва отдернув шторы, подошел к маме, чтобы попрощаться.
Не очень-то представляю себе, как описать это расставание. Нет слов. Но все же я храбро держался. Вспомнил все, чему она сама учила меня, как вести себя с женщинами. Уже двадцать шесть лет моя мать жила без мужчины, и, уходя, быть может, навсегда, я гораздо больше старался выглядеть в ее глазах мужчиной, нежели сыном.
— Ну, до свиданья.
Я с улыбкой поцеловал ее в щеку. Чего мне стоила эта улыбка, могла знать она одна — ведь она тоже улыбалась.
— Надо вас поженить, когда она вернется, — сказала мать. — Как раз то, что тебе надо. Очень красивая.
Должно быть, она все думала, что со мной станет, если рядом не будет жены. Она была права: я ее так и не завел.
— У тебя есть ее фото?
— Вот.
— Как думаешь, у ее семьи есть деньги?
— Понятия не имею.
— Когда она ездила на концерт Бруно Вальтера в Канны, села не в автобус. Взяла такси. Должно быть, у ее семьи много денег.
— Мне все равно, мама. Все равно.
— Дипломатам надо устраивать приемы. Нужны слуги, наряды. Ее родители должны это понимать.
Я взял ее руку.
— Мама, — сказал я. — Мама.
— Можешь быть спокоен, я все это скажу ее родителям, тактично.
— Мама, ну же, мама…
— А главное, обо мне не беспокойся. Я старая кляча: до сих пор дотянула, уж как-нибудь еще продержусь. Сними фуражку…
Я снял. Она перекрестила мой лоб.
— Благословляю тебя, — сказала она по-русски. — Благословляю тебя.
Мать была еврейкой. Но это не имело значения. Главное — высказаться. А на каком языке — уже не так важно.
Я направился к двери. Мы еще раз обменялись взглядами, улыбаясь.
Теперь я чувствовал себя совершенно спокойным.
Что-то от ее мужества перешло ко мне и осталось навсегда. До сих пор ее воля и мужество живут во мне и весьма затрудняют мне существование, запрещая отчаиваться.
Часть третья
Глава XXX
Мысль, что Франция может проиграть войну, никогда не приходила мне в голову. Я знал, конечно, что нас уже побили разок, в 1879 году, но меня тогда еще и на свете не было, да и моей матери тоже. Так что есть разница.
13 июня, когда фронт трещал по всем швам, я, возвращаясь на «Блоке-210» с задания по сопровождению, был ранен над Туром, при взрыве во время бомбардировки. Рана оказалась легкой, и я оставил осколок в ляжке, уже предвкушая, с какой гордостью мать будет нащупывать его при первой же моей побывке. Он все еще во мне. Правда, теперь я вполне мог бы его вынуть.
Потрясающие успехи немецкого наступления не произвели на меня никакого впечатления. Мы такое уже видели с 14-го по 18-й годы. Мы, французы, всегда спохватываемся в последний момент, это общеизвестно. Танки Гудериана, прорвавшиеся в Седане, вызывали у меня смех, и я думал о наших штабных, потирающих руки, видя, как пункт за пунктом осуществляется их ловкий план опять заманить этих немцев-тугодумов в ловушку. Думаю, что сама моя кровь подстегивала столь несокрушимую веру в судьбу отчизны. Наверное, это мне досталось от моих татарских и еврейских предков. Военное начальство в Бордо-Мериньяке быстро признало во мне эти атавистические качества — верность нашим традициям и ослепление, и я был назначен в один из трех сторожевых экипажей, которым поручалось патрулировать с воздуха рабочие кварталы Бордо. Как нам конфиденциально объяснили, речь шла о том, чтобы обеспечить защиту маршала Петена и генерала Вейгана, полных решимости продолжить борьбу против коммунистической пятой колонны, вознамерившейся захватить власть и вступить в переговоры с Гитлером. Я не единственный свидетель этого, как не был единственным, кого хитроумно и подло одурачили: на перекрестках города были расставлены отряды курсантов (среди которых находился и Кристиан Фуше, наш нынешний посол в Дании), дабы обеспечить защиту августейшего старца от пораженцев и соглашателей с врагом. И все же я по-прежнему убежден, что это было проделкой нижестоящего начальства, самовольно учинившего ее в своем тогдашнем патриотическом и политическом рвении. Так что я осуществлял воздушное патрулирование над Бордо, на малой высоте, с заряженными пулеметами, готовый ринуться на любое скопище, которое мне укажут. Я бы это сделал без колебаний и даже не подозревая, что пресловутая пятая колонна, планы которой нам поручалось расстроить, уже выиграла партию, что она и не собиралась открыто идти по улицам со знаменами, но коварно просочилась в души и умы. Я был совершенно неспособен вообразить, чтобы военачальник, достигший высших чинов старейшей и славнейшей армии мира, вдруг оказался пораженцем, малодушным или даже интриганом, готовым в угоду собственной ненависти, злопамятству и политическим пристрастиям пожертвовать судьбами целой нации. В этом отношении дело Дрейфуса ничему меня не научило: ведь, Эстергази был не настоящим французом, а натурализованным, к тому же всего-то надо было опозорить какого-то еврея, а тут, как известно, любые средства хороши: и наши военачальники, участвовавшие в деле Дрейфуса, считали, что поступают правильно. Короче, я в полной неприкосновенности сохранил всю свою веру и наверняка даже сегодня не слишком изменился в этом смысле: позор Дьен-Бьен-Фу, некоторые мерзости алжирской войны повергают меня в растерянность и недоумение. Так что при каждом продвижении противника, при каждом прорыве фронта я многозначительно улыбался и ждал неожиданного контрудара, молниеносного наступления, иронического и ослепительного «вот вам!» наших стратегов — несравненных забияк. Эта атавистическая неспособность отчаиваться, присущая мне как физический недостаток, с которым я ничего не могу поделать, в конце концов приобрела вид какой-то блаженной врожденной глупости, сравнимой разве что с той, что некогда побудила рептилий без легких выползти из первобытного Океана и заставила их не только дышать, но еще и стать однажды прародителями человечества, которое сегодня кишит вокруг нас. Я был глуп, таким и остался — глуп, чтобы убивать, глуп, чтобы жить, глуп, чтобы надеяться, глуп, чтобы побеждать. Чем серьезнее становилось военное положение, тем больше воодушевлялась моя глупость, видевшая тут лишь повод проявить наше превосходство, и я все ждал, что гений отечества, согласно нашим лучшим традициям, воплотится в личности вождя. Я всегда был склонен буквально понимать прекрасные истории, которые человек понарассказал сам о себе в минуты вдохновения, а Франции в этом смысле вдохновения всегда хватало. Блестящий талант моей матери верить и надеяться несмотря ни на что вдруг проснулся во мне и даже достиг неожиданных высот. Я верил по очереди во всех наших полководцев и в каждом узнавал человека, ниспосланного провидением. И когда они один за другим исчезали с балаганной сцены или примирялись с поражением, меня это вовсе не обескураживало и я ничуть не терял веру в наших генералов, просто менял генерала. Я до самого конца не переставал делать ставки, постоянно оказывался в дураках, но был готов продолжать, а когда очередной великий человек выскальзывал у меня из рук, я с удвоенной верой хватался за следующего. Так, я верил по очереди в генерала Гамлена, в генерала Жоржа, в генерала Вейгана — помню, с каким волнением я читал в газете описание его рыжих сапог и кожаных штанов, когда он, взяв на себя верховное командование, спускался по ступеням Ставки, — я верил в генерала Хунтзигера, в генерала Бланшара, в генерала Миттельхаузера, в генерала Норгеса, в адмирала Дарлана и — надо ли говорить — в маршала Петена. Вот так я совершенно естественно — руки по швам, не переставая козырять — и добрался до генерала де Голля. Можете представить мое облегчение, когда эта врожденная глупость и неспособность к отчаянию нашли, наконец, с кем поговорить, когда из глубины пропасти, точно так, как я и ожидал, вдруг появился незаурядный вождь, который был не только под стать обстоятельствам, но еще и носил такое «нашенское» имя. Всякий раз, оказавшись перед де Голлем, я чувствую, что мать меня не обманула — она все-таки знала, о чем говорила.

Пронзительный роман-автобиография об отношениях матери и сына, о крепости подлинных человеческих чувств.Перевод с французского Елены Погожевой.

Роман «Пожиратели звезд» представляет собой латиноамериканский вариант легенды о Фаусте. Вот только свою душу, в существование которой он не уверен, диктатор предлагает… стареющему циркачу. Власть, наркотики, пули, смерть и бесконечная пронзительность потерянной любви – на таком фоне разворачиваются события романа.

Роман «Корни неба» – наиболее известное произведение выдающегося французского писателя русского происхождения Ромена Гари (1914–1980). Первый французский «экологический» роман, принесший своему автору в 1956 году Гонкуровскую премию, вводит читателя в мир постоянных масок Р. Гари: безумцы, террористы, проститутки, журналисты, политики… И над всем этим трагическим балаганом XX века звучит пронзительная по своей чистоте мелодия – уверенность Р. Гари в том, что человек заслуживает уважения.
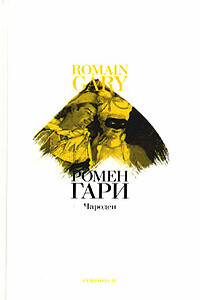
Середина двадцатого века. Фоско Дзага — старик. Ему двести лет или около того. Он не умрет, пока не родится человек, способный любить так же, как он. Все начинается в восемнадцатом столетии, когда семья магов-итальянцев Дзага приезжает в Россию и появляется при дворе Екатерины Великой...
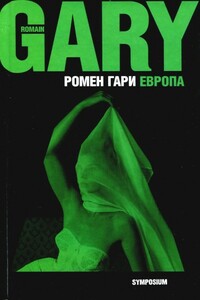
«Европа» — один из поздних романов Гари, где автор продолжает — но в несколько неожиданном духе — разговор на свои излюбленные темы: высокая любовь и закат европейской культуры.

«Ашантийская куколка» — второй роман камерунского писателя. Написанный легко и непринужденно, в свойственной Бебею слегка иронической тональности, этот роман лишь внешне представляет собой незатейливую любовную историю Эдны, внучки рыночной торговки, и молодого чиновника Спио. Писателю удалось показать становление новой африканской женщины, ее роль в общественной жизни.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.

Один из самых знаменитых откровенных романов фривольного XVIII века «Жюстина, или Несчастья добродетели» был опубликован в 1797 г. без указания имени автора — маркиза де Сада, человека, провозгласившего культ наслаждения в преддверии грозных социальных бурь.«Скандальная книга, ибо к ней не очень-то и возможно приблизиться, и никто не в состоянии предать ее гласности. Но и книга, которая к тому же показывает, что нет скандала без уважения и что там, где скандал чрезвычаен, уважение предельно. Кто более уважаем, чем де Сад? Еще и сегодня кто только свято не верит, что достаточно ему подержать в руках проклятое творение это, чтобы сбылось исполненное гордыни высказывание Руссо: „Обречена будет каждая девушка, которая прочтет одну-единственную страницу из этой книги“.
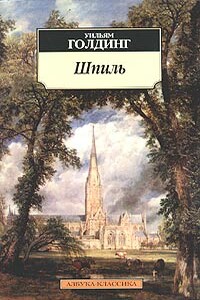
Роман «Шпиль» Уильяма Голдинга является, по мнению многих критиков, кульминацией его творчества как с точки зрения идейного содержания, так и художественного творчества. В этом романе, действие которого происходит в английском городе XIV века, реальность и миф переплетаются еще сильнее, чем в «Повелителе мух». В «Шпиле» Голдинг, лауреат Нобелевской премии, еще при жизни признанный классикой английской литературы, вновь обращается к сущности человеческой природы и проблеме зла.

Самый верный путь к творческому бессмертию — это писать с точки зрения вечности. Именно с этой позиции пишет свою прозу Чингиз Айтматов, классик русской и киргизской литературы, лауреат престижнейших премий. В 1980 г. публикация романа «И дольше века длится день…» (тогда он вышел под названием «Буранный полустанок») произвела фурор среди читающей публики, а за Чингизом Айтматовым окончательно закрепилось звание «властителя дум». Автор знаменитых произведений, переведенных на десятки мировых языков повестей-притч «Белый пароход», «Прощай, Гульсары!», «Пегий пес, бегущий краем моря», он создал тогда новое произведение, которое сегодня, спустя десятилетия, звучит трагически актуально и которое стало мостом к следующим притчам Ч.

В тихом городке живет славная провинциальная барышня, дочь священника, не очень юная, но необычайно заботливая и преданная дочь, честная, скромная и смешная. И вот однажды... Искушенный читатель догадывается – идиллия будет разрушена. Конечно. Это же Оруэлл.
