Обертон - [7]
Какое-то время в сортировке ничего не шевелилось, не шуршало, казалось, любое движение, стук, шаг неизбежно что-то обрушат.
— Ну, Любка, подь ты к чертям! Тебя наслушаешься — так хоть удавись…
— А ты не слушай, коли сердцу невмочь, — крикнул кто-то из парней и захлопал в ладоши. — Н-ну, молодец, Люба! Н-ну, творе-ец!
— Кабы я не молодец, так и Вика Кукин был бы не засранец! — громко отозвалась Люба, спрыгивая со стола. Нарочитой грубостью, громом обрушившегося с высоты тела разряжала она обстановку, снимала гнетущее впечатление с народа, возможно, и с себя.
Иссякал поток писем с фронта и на фронт. Капитулировала Япония. Война на земле остановилась. Надолго ли?
В действие вступал как бы в тени все время державшийся лейтенант Кукин. Назначено ему было в боевых походах вести политчас, и он-то, находясь тогда в тесном контакте с экспедиторшей и библиотекаршей Любой, поставил ее политинформатором, оставляя за собой главное воспитуюшее дело — политчас.
Будучи главным начальником над почтовым бабьим эскадроном, держал он сортировку строго: бить — не бил, орать — не орал, но как глянет в упор, поведет усами и бородой из стороны в сторону — тут же кадр его описается в казенные штаны.
Но вот настали иные времена, и повалил в часть мужик, пусть и неполноценный, пусть увечный, а все же мужик, и военные девки, всю войну ждавшие избавления от оков, пусть и не общевойсковых, хотя бы от гнева своего начальника, воспарили духом, сделались, дерзкими, бойкими на язык, хохотали много и бесстрашно. Правда, завалы почты несколько остужали их пыл и вольность, даже политчас какое-то время не проводился: все силы были брошены на окончательный, победоносный штурм письмо-почтового потока.
За это время произошли резкие изменения во взаимоотношениях старых и новых кадров, прежде всего на сортировке: купе, как я уже заметил, располагали к воссоединению пар, и чем они плотнее воссоединялись, тем непослушней делались.
Еще недавно безропотные почтовые кадры восприняли пополнение не только как защитников Родины, но и просто мужиков, о которых в народе говорится: «За мужа завалюся — никого не боюся», считали их судьбою к ним ниспосланными на личную защиту. Хотя девки и соблюдали почтение к начальству, прежде всего к непосредственному, но ох и вольны, ох и веселы, ох и бойкоязыки сделались! В строй не собьешь, команды вроде не слышат, в столовую не строем, но под ручку со стажером норовят следовать. Гуляя по Ольвии вечером или по саду — глаза отводят, не приветствуют, честь не отдают.
«Не рано ль, голубушки, демобилизовались?! Не рано ль из железных военных рядов вышли?!» — думал Виталя Кукин и, возобновив воспитующие беседы, обязал всех, и прежде всего вновь прибывших сортировщиков во время обеда иль после работы в обязательном порядке присутствовать на политчасе, который порою растягивался и на два часа.
Политчас чаще всего проводился в просторном коридоре сортировки. Если же погода располагала, уходили в сад, сгоняли с поляны коров, очищали от лепех траву и, разлегшись на вновь зазеленевшей от рос и дождей муравке вперемежку с девками, орезвевшими духом и налившимися телом, невинно с ними заигрывали: то теребнут, как в школе бывало, за вихор, то шлепнут по мягкому месту, то поздним желтым цветком проведут по смеженным глазам. Иные парни уже похозяйски, открыто нежились, положив голову в ласковые женские колени. Словом, блаженствовали отвоевавшиеся, много перестрадавшие бойцы, достигнув долгожданного берега. И осень, как по заказу добрая, теплом и лаской реяла над людьми, и поздние яблоки, но чаще груши со стуком падали-катились вниз, сшибая с древа последние листья.
Толя-якут, не знавший, как еще выразить товарищам, и прежде всего подругам, чувства любви и дружбы, собирал фрукты по саду в кем-то забытую корзину, высыпал их к ногам своей напарницы Стеши. Стесняясь такого, явно первобытного, внимания, объятая чувством коллективизма, царящего в почтовой части, Стеша взывала: «Девчонки! Ребята! Берите яблоки, берите груши! Тут так много! Берите!..»
К этой-то публике, блаженствующей на полянке, похлопывая по ладони красным блокнотом, на котором значилось слово «Агитатор», и приближался лейтенант Кукин с намерением пусть не сразу, не вдруг идейно просветить ее, внушить важность передовой социалистической идеологии и значение текущего момента.
В ту пору, когда Виталя Кукин не был еще лейтенантом и агитатором, ослепленный ярким светом бурной действительности, в которую он в судорогах и материнских стонах сподобился явиться, казенного спирту хватившие больничные повитухи-акушерки правили мокрому младенцу головку и вместо того, чтобы лепить ее с боков, хряснули бесчувственной ладонью по темечку и сплющили головку, а вместе с нею сплющилось и все остальное: лоб заузился, переносица расползлась, нос поширел и вознесся вверх, рот сделался до ушей, — все сместилось на лице младенца, лишь на подбородок не повлияло. Виталя Кукин боролся с изъянами своего лица посредством усов и бороды, старался придать облику своему мужественное выражение, полагал, что усы и бороды затем и носили русские офицеры — чтоб выглядеть внушительно.
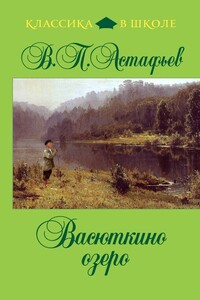
Рассказ о мальчике, который заблудился в тайге и нашёл богатое рыбой озеро, названное потом его именем.«Это озеро не отыщешь на карте. Небольшое оно. Небольшое, зато памятное для Васютки. Еще бы! Мала ли честь для тринадцатилетнего мальчишки — озеро, названное его именем! Пускай оно и не велико, не то что, скажем, Байкал, но Васютка сам нашел его и людям показал. Да, да, не удивляйтесь и не думайте, что все озера уже известны и что у каждого есть свое название. Много еще, очень много в нашей стране безымянных озер и речек, потому что велика наша Родина и, сколько по ней ни броди, все будешь находить что-нибудь новое, интересное…».
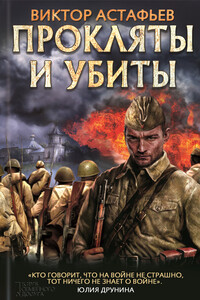
1942 год. В полк прибыли новобранцы: силач Коля Рындин, блатной Зеленцов, своевольный Леха Булдаков, симулянт Петька. Холод, голод, муштра и жестокость командира – вот что ждет их. На их глазах офицер расстреливает ни в чем не повинных братьев Снигиревых… Но на фронте толпа мальчишек постепенно превращается в солдатское братство, где все связаны, где каждый готов поделиться с соседом последней краюхой, последним патроном. Какая же судьба их ждет?
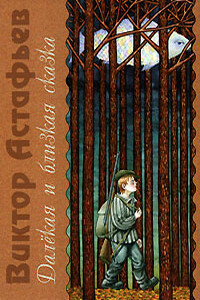
Рассказ опубликован в сборнике «Далекая и близкая сказка».Книга классика отечественной литературы адресована подрастающему поколению. В сборник вошли рассказы для детей и юношества, написанные автором в разные годы и в основном вошедшие в главную книгу его творчества «Последний поклон». Как пишет в предисловии Валентин Курбатов, друг и исследователь творчества Виктора Астафьева, «…он всегда писал один „Последний поклон“, собирал в нем семью, которой был обойден в сиротском детстве, сзывал не только дедушку-бабушку, но и всех близких и дальних, родных и соседей, всех девчонок и мальчишек, все игры, все малые радости и немалые печали и, кажется, все цветы и травы, деревья и реки, всех ласточек и зорянок, а с ними и всю Родину, которая есть главная семья человека, его свет и спасение.
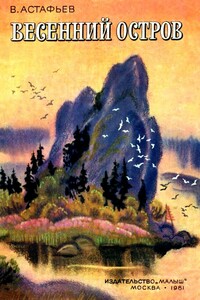
Рассказы «Капалуха» и «Весенний остров» о суровой северной природе и людям Сибири. Художник Татьяна Васильевна Соловьёва.
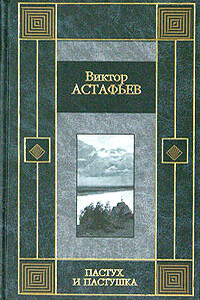
Виктор Астафьев (1924—2001) впервые разрушил сложившиеся в советское время каноны изображения войны, сказав о ней жестокую правду и утверждая право автора-фронтовика на память о «своей» войне.Включенные в сборник произведения объединяет вечная тема: противостояние созидательной силы любви и разрушительной стихии войны. «Пастух и пастушка» — любимое детище Виктора Астафьева — по сей день остается загадкой, как для критиков, так и для читателей, ибо заключенное в «современной пасторали» время — от века Манон Леско до наших дней — проникает дальше, в неведомые пространственные измерения...
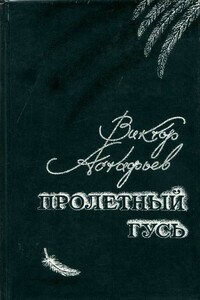
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
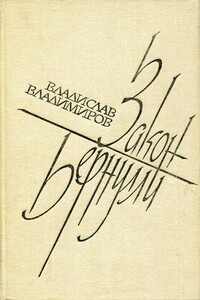
Герои Владислава Владимирова — люди разных возрастов и несхожих судеб. Это наши современники, жизненное кредо которых формируется в активном неприятии того, что чуждо нашей действительности. Литературно-художественные, публицистические и критические произведения Владислава Владимирова печатались в журналах «Простор», «Дружба народов», «Вопросы литературы», «Литературное обозрение» и др. В 1976 году «Советский писатель» издал его книгу «Революцией призванный», посвященную проблемам современного историко-революционного романа.
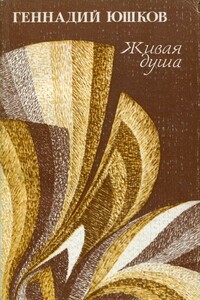
Геннадий Юшков — известный коми писатель, поэт и прозаик. В сборник его повестей и рассказов «Живая душа» вошло все самое значительное, созданное писателем в прозе за последние годы. Автор глубоко исследует духовный мир своих героев, подвергает критике мир мещанства, за маской благопристойности прячущего подчас свое истинное лицо. Герои произведений Г. Юшкова действуют в предельно обостренной ситуации, позволяющей автору наиболее полно раскрыть их внутренний мир.
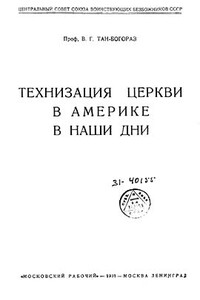
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эпизод из жизни северных рыбаков в трудное военное время. Мужиков война выкосила, женщины на работе старятся-убиваются, старухи — возле детей… Каждый человек — на вес золота. Повествование вращается вокруг чая, которого нынешние поколения молодежи, увы, не знают — того неподдельного и драгоценного напитка, витаминного, ароматного, которого было вдосталь в советское время. Рассказано о значении для нас целебного чая, отобранного теперь и замененного неведомыми наборами сухих бурьянов да сорняков. Кто не понимает, что такое беда и нужда, что такое последняя степень напряжения сил для выживания, — прочтите этот рассказ. Рассказ опубликован в журнале «Наш современник» за 1975 год, № 4.
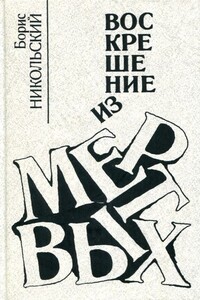
В книгу вошли роман «Воскрешение из мертвых» и повесть «Белые шары, черные шары». Роман посвящен одной из актуальнейших проблем нашего времени — проблеме алкоголизма и борьбе с ним. В центре повести — судьба ученых-биологов. Это повесть о выборе жизненной позиции, о том, как дорого человек платит за бескомпромиссность, отстаивая свое человеческое достоинство.
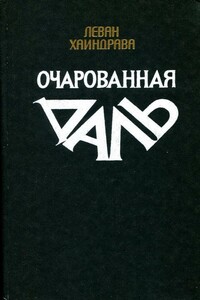
Новый роман грузинского прозаика Левана Хаиндрава является продолжением его романа «Отчий дом»: здесь тот же главный герой и прежнее место действия — центры русской послереволюционной эмиграции в Китае. Каждая из трех частей романа раскрывает внутренний мир грузинского юноши, который постепенно, через мучительные поиски приходит к убеждению, что человек без родины — ничто.