О священстве, о древних и новых жертвах - [2]
Лично духовенство, я думаю, прекрасно. Но именно в золотящихся одеждах его, иконообразное — оно ужасно потому, что непоправимо, неисправимо, нераскаянно. Я не преувеличиваю чувства и идеи греха: но без нее слабому человеку трудно бы прожить. Согрешил — и стараешься добрым маленьким дельцем поправить занозу в сердце. Я видал студентов кающихся, гимназистов, чиновников кающихся друг перед другом. Все мы знаем, как черною полосою проходит четвертая и седьмая неделя великого поста для мирян: они каются, и это видно, заметно в обществе, это маленький духовный траур в стране. Совесть, очевидно, растревожена. Но видал ли кто и заметно ли вообще покаяние духовенства? Нельзя не обратить внимания, что это таинство как бы ослаблено для них, стало нечувствительно, разрежено. Теперь сейчас вы поймете, как это важно: светская литература полна самобичевания; но возьмите духовные журналы: это сплошное счастье и самоуверенность, самодовольство. Таким образом, духовенство почти потеряло в укорах совести жгучий момент к подвигу, о недостатке коего здесь в собраниях говорилось: оно не побежало к голодающим, оно не представительствовало пред Грозным (кроме единственного случая — Митр. Филиппа), не волновалось от Аракчеева; не торопилось учить детей в школах. Греки называли богов «блаженными» „οι μάκαρεξ”: вот такие «счастливые боги» суть и «земные ангелы, небесные человеки», «священники», т. е. «святые» и, словом, чин — духовенства в эпитрахили. В рясе — он друг, человек, ученый, в душе иногда поэт, часто — гражданин. Но он надел ризу: а теперь вы к нему не достучитесь, теперь умерло его сердце и умер его ум.
Как только благодать материализировалась и распределилась между духовенством, мир стал рабом его, от царя до нищего. От. Матвей Ржевский говорит Гоголю: «Не подходишь под мое благословение, бегаешь благодати». Благодать ему представляется электричеством, струящимся с его рук, как с иголки громоотвода. Гоголь пусть и гений, но все же человек, а от. Матвей, каков бы он ни был лично, по способности каждый день надеть эпитрахиль и идти по «узкому пути» на алтарную стену, в киот, под ризу — вовсе не человек, а некоторая божественная вещь, божественное существо. У него ни тоски, ни горя; „οι μάκαρεξ” — блаженные боги! Наука, жизнь, труд, заслуга, гений — все померкло, понизилось перед «возложением рук», непосредственно от апостолов до от. Матвея: перед тем «возложением», которое, кажется, первоначально имело характер просто доброты и заботы посылающего о посылаемом. Сколько праведников, как Бруно, погибли от духовенства! на сколько праведных дел, событий, жизни прямо плюнуто с «узкого пути Марии» (мученичество, инквизиция, у нас — сектантство). Странно: семьдесят толстовцев и полторы тысячи пашковцев заставили духовенство «разодрать ризы на себе». Но вот нарисуйте картинно, ярко, как жгли Джиордано Бруно: ни Боссюэт, ни пастор Штекер, ни В. М. Скворцов[4] не посыплют пеплом головы от зрелища. И до сих пор католичество ведь нисколько не раскаялось в инквизиции; восточная церковь не раскаялась, что около V—VI вв. в Греции почти повально вырезывались жиды за печать Ветхого Завета на себе. И когда спрашиваешь себя, да как на это все духу хватало, то находим ответ в этом преобразовании учения о благодати: перед «богами» все человеческое — ничто, и гений, и заслуга, и жизнь. В то же время христианское человечество, лишенное участия и собственности в благодати, подпало или, точнее, подведено было духовенством под «иго закона» гораздо жесточе, неумолимее, чем как было под ним до «искупления» ветхозаветное человечество. Подведено под «иго» своих специальных «духовных» законов — активно; а пассивно — через допущение государству издавать для стада какие угодно законы. В этом стаде у каждой овцы у нас отнято всякое внутреннее сопротивление, всякий упор, твердость — против внешнего давления. Твердость правая, упорство святое, которое опиралось бы на листочек общего венца: благодати, всему человечеству данной. Это бессильное и бесправное стадо со сломанными у него костями (отнята точка упора), естественно, повело себя нервно, патологично, немощно и буйно; повело, как санкюлот. Идея царственного достоинства, священства «по чину Мельхиседекову» (вне иерархического порядка, чьего-либо назначения), откуда в Ветхом Завете и родилось пророчество, — эта благороднейшая и зиждительная идея была снята с человечества: и угасло пророчество. Осталась только публицистика, нервная, сорная, блеклая. Но по-мещански она все же делает добросовестно свою мещанскую работу. Тогда как «старший брат» этого блудного сына Небесного Отца и не пророчествует, и не делает; а только, ссылаясь на «благодать Христову», это как бы новое «первородство», зажимает нос от «пороков» младшего, брата и обвиняет, упорнее всего обвиняет его перед Отцом своим — Богом «щедрот», как мы верим в сердце своем.
***
Это — частности. Но есть и мировая сторона в нашей проблеме. Ведь о чем мы толкуем? О нереальности христианства. Об этом все плачи, в целой Европе. Человек бы должен бежать

В.В.Розанов несправедливо был забыт, долгое время он оставался за гранью литературы. И дело вовсе не в том, что он мало был кому интересен, а в том, что Розанов — личность сложная и дать ему какую-либо конкретную характеристику было затруднительно. Даже на сегодняшний день мы мало знаем о нём как о личности и писателе. Наследие его обширно и включает в себя более 30 книг по философии, истории, религии, морали, литературе, культуре. Его творчество — одно из наиболее неоднозначных явлений русской культуры.

Книга Розанова «Уединённое» (1912) представляет собой собрание разрозненных эссеистических набросков, беглых умозрений, дневниковых записей, внутренних диалогов, объединённых по настроению.В "Уединенном" Розанов формулирует и свое отношение к религии. Оно напоминает отношение к христианству Леонтьева, а именно отношение к Христу как к личному Богу.До 1911 года никто не решился бы назвать его писателем. В лучшем случае – очеркистом. Но после выхода "Уединенное", его признали как творца и петербургского мистика.

«Последние листья» (1916 — 1917) — впечатляющий свод эссе-дневниковых записей, составленный знаменитым отечественным писателем-философом Василием Васильевичем Розановым (1856 — 1919) и являющийся своего рода логическим продолжением двух ранее изданных «коробов» «Опавших листьев» (1913–1915). Книга рассчитана на самую широкую читательскую аудиторию.
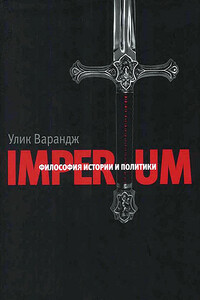
Данное произведение создано в русле цивилизационного подхода к истории, хотя вслед за О. Шпенглером Фрэнсис Паркер Йоки считал цивилизацию поздним этапом развития любой культуры как высшей органической формы, приуроченной своим происхождением и развитием к определенному географическому ландшафту. Динамичное развитие идей Шпенглера, подкрепленное остротой политической ситуации (Вторая мировая война), по свежим следам которой была написана книга, делает ее чтение драматическим переживанием. Резко полемический характер текста, как и интерес, которого он заслуживает, отчасти объясняется тем, что его автор представлял проигравшую сторону в глобальном политическом и культурном противостоянии XX века. Независимо от того факта, что книга постулирует неизбежность дальнейшей политической конфронтации существующих культурных сообществ, а также сообществ, пребывающих, по мнению автора, вне культуры, ее политологические и мировоззренческие прозрения чрезвычайно актуальны с исторической перспективы текущего, XXI столетия. С научной точки зрения эту книгу критиковать бессмысленно.
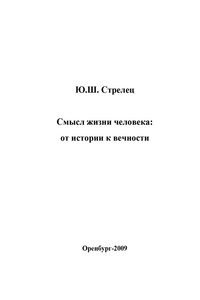
Монография посвящена исследованию главного вопроса философской антропологии – о смысле человеческой жизни, ответ на который важен не только в теоретическом, но и в практическом отношении: как «витаминный комплекс», необходимый для полноценного существования. В работе дан исторический обзор смысложизненных концепций, охватывающий период с древневосточной и античной мысли до современной. Смысл жизни исследуется в свете философии абсурда, в аспекте цели и ценности жизни, ее индивидуального и универсального содержания.

Данная работа является развитием и продолжением теоретических и концептуальных подходов к теме русской идеи, представленных в предыдущих работах автора. Основные положения работы опираются на наследие русской религиозной философии и философско-исторические воззрения ряда западных и отечественных мыслителей. Методологический замысел предполагает попытку инновационного анализа национальной идеи в контексте философии истории. В работе освещаются сущность, функции и типология национальных идей, система их детерминации, феномен национализма.
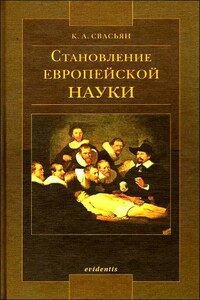
Первая часть книги "Становление европейской науки" посвящена истории общеевропейской культуры, причем в моментах, казалось бы, наиболее отдаленных от непосредственного феномена самой науки. По мнению автора, "все злоключения науки начались с того, что ее отделили от искусства, вытравляя из нее все личностное…". Вторая часть исследования посвящена собственно науке.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Санкт-Петербург - город апостола, город царя, столица империи, колыбель революции... Неколебимо возвысившийся каменный город, но его камни лежат на зыбкой, болотной земле, под которой бездна. Множество теней блуждает по отражённому в вечности Парадизу; без счёта ушедших душ ищут на его камнях свои следы; голоса избранных до сих пор пробиваются и звучат сквозь время. Город, скроенный из фантастических имён и эпох, античных вилл и рассыпающихся трущоб, классической роскоши и постапокалиптических видений.