О слове и Слове в герменевтике Г.Г. Гадамера - [4]
Гадамер отмечает, что сказанное мы понимаем лишь потому, что оно находится "в смысловом единстве с бесконечностью не-сказанного" (ИМ, 542). Само говорение, взаимное объяснение "удерживает" это единство (там же). Именно поэтому "сама сущность" сказанного может постигаться через "самые привычные и обыденные слова", проводящие нас к смыслу.
1.3 Слово как язык народа
Чем же отличается конкретный язык определенного народа от Языка в широком смысле и от "языка Нового Завета", единого Слова? Может быть, язык этнический является лишь модусом, одним из способов существования Языка? Может быть "общий для всего языкового коллектива набор значений и средств их выражения" — это язык, а использование этого "набора" — речь (Мечковская, 24)? Гадамер делает экскурс в историю решения данных проблем. Гердер и Гумбольдт, например, рассматривали "каждый язык как некий организм" (ИМ, 508), при этом, не уходя от идеи Языка. В трудах Гумбольдта "вместе с чувством индивидуальности всегда возникает и предощущение цельности, и потому углубление в индивидуальность языковых явлений понимается им как путь к постижению языковой природы человека (Sprachverfassung) в ее целостности" (ИМ, 508). Таким образом, Язык мы можем назвать целостной языковой природой человека, в которой являет себя "истина слова" (там же), а языки — индивидуальными проявлениями этой природы. Гумбольдт говорит о человеческой "духовной силе", которая порождает языки (ИМ, 509) и стремится к некой всеобщей цели (там же). По его мнению, все человеческие языки, хотя и в разной степени и разными средствами, стремятся "воплотить идею совершенного языка в жизнь" (ИМ, 509). Именно по степени приближения языков к этой цели он мог их дифференцировать. Кроме того, каждый язык "постоянно развивается и совершенствуется, все полнее выражая свой опыт мира" (ИМ, 528). Языки как отдельные монады Лейбница обладают свойством воспринимать и стремиться ко все более совершенному восприятию. Гадамер утверждает, что "монадологический универсум" Лейбница и есть "тот универсум, в котором фиксируется различие человеческих языков" (ИМ, 509). Действительно, утверждение Гумбольдта о том, что всякий язык — это особенное мировоззрение (см. там же) полностью "укладывается" в метафизику индивидуальности Лейбница, где монады приобретают индивидуальные черты благодаря уникальности "точки воззрения" каждой из них. Путем абстракции языковых явлений к их форме, Гумбольдт пришел к выводу, что языки имеют значение "зеркала духовного своеобразия народов" (там же). (В этом контексте становится возможным множественность мнений об одной и той же, единственной Истине).
"Всякий язык обладает собственным бытием, возвышающимся над всем тем, что говорится на этом языке в каждом данном случае" (ИМ, 510). И в то же время по Гумбольдту языкам, языковой практике "противостоит бесконечная и поистине безграничная область, совокупность всего мыслимого" (цит. по ИМ, 510) Возможно, эта область и есть Язык? Языковая практика — "бесконечное использование конечного набора средств" (там же). Здесь мы, пожалуй, можем развести понятия языка и речи, приняв этнические языки за отдельные бытия, а речь — за практикование этих языков — "бытий", за их действие, "говорение на нас". Еще одно важное прозрение Гумбольдта: "Не смотря на то, что языки "говорят на нас" и обладают некой властью над нами, мы все же имеем определенную свободу по отношению к ним" (ИМ, 510). Власть языков над их носителями Гумбольдт поясняет через "историческую жизнь духа", которая "стоит за" языками-формами. Он говорит, что мы отчетливо и живо чувствуем "как даже отдаленное прошлое все еще присутствует в настоящем — ведь язык насыщен переживаниями прежних поколений и хранит их живое дыхание" (цит. по ИМ, 510). Гадамер признает, что обоснование Гумбольдтом феномена языка и исторической подвижности языковой жизни через понятия языковой силы и внутренней формы может удовлетворить, однако, как он пишет, "такое понятие о языке представляет собой абстракцию, от которой мы, ради наших собственных целей, вынуждены отказаться" (там же). Дело в том, что, абстрагируя язык как форму, Гумбольдт пренебрегает его содержанием, самым важным для герменевтики. Гадамер говорит: "Если всякий язык есть мировидение, то он обязан этим не тому, что он являет собой определенный тип языка (в каковом качестве его и рассматривают ученые-лингвисты), но тому, что говорится или соответственно пере-дается на этом языке" (там же). Или: "В рамках герменевтического опыта языковая форма не может быть отделена от содержания, дошедшего до нас в этой форме" (там же). Таким образом, язык народа не есть абстрактная идеальная форма (как Язык или слово — singulare tantum.), но бытие, явление реальное и материализованное. Этнические языки — это мировидение, они едины со своими преданиями (см. ИМ, 510). (Подробнее о предании будем говорить в разделе "Слово и традиция"). Любопытно, что освоение нами иностранного языка никогда не может стать присвоением еще одного мировидения. Мы всего лишь "в большей или меньшей степени переносим на иностранный язык свое собственное миропонимание и, больше того, свое собственное представление о языке" — считает Гумбольдт (цит. по ИМ, 511). Но то, что ограничивает лингвиста, является для герменевта важнейшим способом осуществления герменевтического опыта (см. там же). Наша неспособность обладать "несколькими мировидениями оставляет единственный способ миропонимания — "позволить сказанному на этом языке сказать себе то, что оно говорит" (ИМ, 512), что не возможно, "если мы не введем в дело свое собственное миропонимание и, больше того, свое собственное представление о языке" (там же). Пожалуй, в этом состоит принцип (начало) всякого понимания вообще: и другого языка, и другого человека, и Другого. Язык принадлежит не к сфере "я", но к сфере "Ты" [16]. Мир неродного языка "другой по отношению к нам" (ИМ, 511). Он не только заключает в себе свою собственную истину — он также обладает этой истиной для нас" (там же) и понять ее или предание целиком мы можем, только обращаясь к "уже знакомому и родному, которое должно быть опосредовано высказыванием текста" (там же). Т. е. для понимания нужно взглянуть на речь другого или на текст, сопоставив со "знакомым и родным", с нашим собственным мировидением. Гадамер соглашается с Гумбольдтом в вопросе о сущности языка. Она — "в живом процессе речи, в языковой деятельности (энергейя)" (ИМ, 512), а не в догматичной грамматике. Поддерживает Гадамер и взгляд Гумбольдта на происхождение языка, "который с самого начала является человеческим" (там же) и какого-либо человеческого мира, лишенного языка не существовало (см. там же). Понятие языков как мировидений открывает еще одну грань феномена языка: на языках основано и в них выражается то, что для людей есть мир, "тут-бытие" этого мира (см. там же). Однако об этом мы поговорим в следующем разделе.
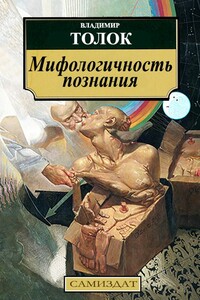
Жизнь — это миф между прошлым мифом и будущим. Внутри мифа существует не только человек, но и окружающие его вещи, а также планеты, звезды, галактики и вся вселенная. Все мы находимся во вселенском мифе, созданным творцом. Человек благодаря своему разуму и воображению может творить собственные мифы, но многие из них плохо сочетаются с вселенским мифом. Дисгармоничными мифами насыщено все информационное пространство вокруг современного человека, в результате у людей накапливается множество проблем.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Михаил Наумович Эпштейн (р. 1950) – один из самых известных философов и теоретиков культуры постсоветского времени, автор множества публикаций в области филологии и лингвистики, заслуженный профессор Университета Эмори (Атланта, США). Еще в годы перестройки он сформулировал целый ряд новых философских принципов, поставил вопрос о возможности целенаправленного обогащения языковых систем и занялся разработкой проективного словаря гуманитарных наук. Всю свою карьеру Эпштейн методично нарушал границы и выходил за рамки существующих академических дисциплин и моделей мышления.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

Гений – вопреки расхожему мнению – НЕ «опережает собой эпоху». Он просто современен любой эпохе, поскольку его эпоха – ВСЕГДА. Эта книга – именно о таких людях, рожденных в Китае задолго до начала н. э. Она – о них, рождавших свои идеи, в том числе, и для нас.