О радости детства... - [13]
Но это чувство вины и непременной неудачи балансировалось чем-то иным: а именно, инстинктом самосохранения. Даже слабое, уродливое, трусливое, зловонное существо, чье существование абсолютно ничем не оправдано, все же хочет жить и по-своему быть счастливым. Я не мог перевернуть существующую систему ценностей, или стать успехом, но я мог принять собственную неудачу, и приспособиться к этой ситуации. Я мог принять себя таким, каким я есть, и попытаться выжить на этих правах.
Но выжить, или по крайней мере сохранить какую-либо независимость, было преступно, так как это означало нарушать правила, которые ты сам признавал. Со мной учился мальчик по имени Клиффи Бёртон, который месяцами надо мной жестоко издевался. Он был высоким, сильным, грубо-красивым мальчиком с очень красным лицом и курчавыми черными волосами, который постоянно выворачивал чьи-то руки, выкручивал чьи-то уши, порол кого-то наездничим кнутом (он был в шестом классе), или творил чудеса на футбольном поле. Флип его любила (почему его и называли по имени), и Самбо его хвалил, как мальчика с «сильным характером», который умел «наводить порядок». За ним следовала группа подхалимов, прозвавших его «Силач».
Однажды, когда мы в раздевалке снимали пальто, Бёртон почему-то меня оскорбил. Я ему ответил тем же, после чего он схватил меня за запястье, вывернул его, и выгнул мою руку назад так, что было кошмарно больно. Я помню его красивое, насмешливое красное лицо, склонившееся надо мной. Думаю, что он был старше меня, а также несравненно сильнее. Когда он меня отпустил, в моем сердце собралась страшная, злая решимость. Я ему отомщу, ударив его тогда, когда он это меньше всего будет ожидать. Это был стратегический момент, так как учитель, вышедший на прогулку, мог в любой момент вернуться, и тогда драки не могло быть. Я подождал, наверное, минуту, подошел к Бёртону с самым безвредным выражением, которое я только мог напустить на лицо, а потом, пользуясь всем весом своего тела, ударил его кулаком в лицо. Удар отбросил его назад, и изо рта у него потекла кровь. Его вечно румяное лицо почернело от гнева. Он развернулся, и промыл рот в тазу.
— Так и быть! — сказал он мне сквозь зубы, когда учитель нас уводил.
После этого, он днями ходил за мной, вызывая меня на драку. Хотя я и был напуган до чертиков, я твердо отказывался с ним драться. Я сказал, что удар в лицо свел с ним счеты, и больше драться было не из-за чего. Любопытно, что он на меня не навалился, не ожидая моего согласия, хотя общественное мнение это поддержало бы. Так что постепенно обида развеялась.
Я поступил неправильно, как согласно моим собственным правилам, так и согласно его правилам. Ударить его, когда он этого не ожидал, было неправильно. Но потом отказываться драться, зная, что если мы подеремся, он меня изобьет — было гораздо хуже: это было трусостью. Если бы я отказывался потому, что я не одобрял драк, или потому, что я искренне считал, что все счеты были сведены, это было бы приемлемо; но я отказывался лишь оттого, что боялся. Даже моя месть из-за этого не считалась. Я его ударил в миг бездумного насилия, намеренно не думая о будущем, а только будучи полон решимости один раз постоять за себя, и к черту все последствия. У меня было время осознать, что я поступил неправильно, но это было таким преступлением, от которого получаешь удовлетворение. Сейчас все было сведено к нолю. Первый поступок содержал в себе смелость, но последующая трусость ее стерла.
Факт, который я не заметил, состоял в том, что хотя формально Бёртон вызывал меня на драку, он на меня не нападал. Более того, получив один удар, он больше надо мной не издевался. Лишь лет через двадцать я осознал значимость этого. В те же времена, я не мог выйти за рамки дилеммы, которая ставилась перед слабыми в мире, управляемом сильными: нарушь правила, или умри. Я не видел, что в этом случае, слабые имеют право составлять для себя другой набор правил, так как даже если бы эта мысль пришла мне в голову, не нашлось бы никого, кто бы ее мне подтвердил. Я жил в мире мальчиков, общительных существ, ничто не подвергающих сомнению, принимающих закон сильного, и мстящих за собственные унижения, передавая их другим послабее. Моя ситуация была такой же, как и у бесчисленного множества других мальчиков, и даже если потенциально я был боyльшим бунтовщиком, чем большинство, то только потому, что по мальчиковым стандартам, я был жалким образчиком. Но я никогда не бунтовал интеллектуально — лишь эмоционально. Мне ничто не могло помочь, кроме собственного тупого эгоизма, неспособности себя не то, что презирать — не любить, моего инстинкта самосохранения.
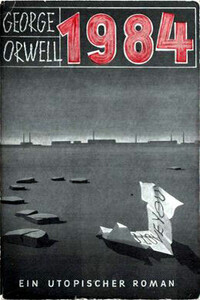
«Последние десять лет я больше всего хотел превратить политические писания в искусство», — сказал Оруэлл в 1946 году, и до нынешних дней его книги и статьи убедительно показывают, каким может стать наш мир. Большой Брат по-прежнему не смыкает глаз, а некоторые равные — равнее прочих…

В тихом городке живет славная провинциальная барышня, дочь священника, не очень юная, но необычайно заботливая и преданная дочь, честная, скромная и смешная. И вот однажды... Искушенный читатель догадывается – идиллия будет разрушена. Конечно. Это же Оруэлл.

В книгу включены не только легендарная повесть-притча Оруэлла «Скотный Двор», но и эссе разных лет – «Литература и тоталитаризм», «Писатели и Левиафан», «Заметки о национализме» и другие.Что привлекает читателя в художественной и публицистической прозе этого запретного в тоталитарных странах автора?В первую очередь – острейшие проблемы политической и культурной жизни 40-х годов XX века, которые и сегодня продолжают оставаться актуальными. А также объективность в оценке событий и яркая авторская индивидуальность, помноженные на истинное литературное мастерство.

В 1936 году, по заданию социалистического книжного клуба, Оруэлл отправляется в индустриальные глубинки Йоркшира и Ланкашира для того, чтобы на месте ознакомиться с положением дел на шахтерском севере Англии. Результатом этой поездки стала повесть «Дорога на Уиган-Пирс», рассказывающая о нечеловеческих условиях жизни и работы шахтеров. С поразительной дотошностью Оруэлл не только изучил и описал кошмарный труд в забоях и ужасные жилищные условия рабочих, но и попытался понять и дать объяснение, почему, например, безработный бедняк предпочитает покупать белую булку и конфеты вместо свежих овощей и полезного серого хлеба.

«Да здравствует фикус!» (1936) – горький, ироничный роман, во многом автобиографичный.Главный герой – Гордон Комсток, непризнанный поэт, писатель-неудачник, вынужденный служить в рекламном агентстве, чтобы заработать на жизнь. У него настоящий талант к сочинению слоганов, но его работа внушает ему отвращение, представляется карикатурой на литературное творчество. Он презирает материальные ценности и пошлость обыденного уклада жизни, символом которого становится фикус на окне. Во всех своих неудачах он винит деньги, но гордая бедность лишь ведет его в глубины депрессии…Комстоку необходимо понять, что кроме высокого искусства существуют и простые радости, а в стремлении заработать деньги нет ничего постыдного.

Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».

Роман «Призовая лошадь» известного чилийского писателя Фернандо Алегрии (род. в 1918 г.) рассказывает о злоключениях молодого чилийца, вынужденного покинуть родину и отправиться в Соединенные Штаты в поисках заработка. Яркое и красочное отражение получили в романе быт и нравы Сан-Франциско.
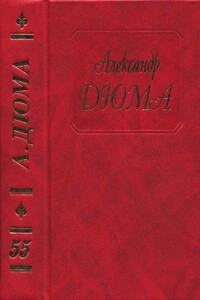
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
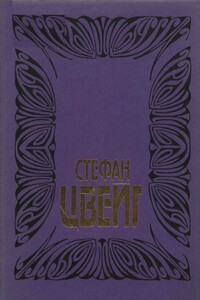
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 — 1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».
