О происхождении некоторых типов Достоевского (Литература в переплетениях с жизнью) - [8]
Ужас неимущества!
– Давай имущества!
Вот их утверждение в истории. Святое и вечное.
Но что же делать с пролетариатом? Не с пролетариатом вчерашнего дня, который сегодня стал имущим, а с пролетариатом сегодняшнего дня?
На это и отвечает Левин, а Достоевский отвечает в том комментарии, который высказывает по поводу, в сущности, ленивых реплик Левина. Так как барчук назавтра пошел охотиться. IV.
«Левин» Толстого, к взгляду которого на собственность и имущественные отношения мы должны сейчас перейти, представляет, как и «Алеко» Пушкина, опять того «скитающегося русского человека», того «тоскующего мальчика» у нас, «не крепкого земле», т. е. «не крепкого» вообще всяким определенным, твердым, традиционным отношениям, взглянув на один абрис которого, Достоевский испытывал то же, о чем Пушкин сказал в другой сфере и в другом отношении:
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется…
И т. д., и т. д. Достоевский вздрагивал, как кавалерийская лошадь при звуке трубы, как конь рыцаря при призывном роге к битве, как рота вскакивает и хватается за ружья, когда «тревога» барабанщика зовет ее в бой и к смерти. У всякого есть своя «муза»: у Некрасова это была муза «мести и печали», – мести, довольно естественно, за прошлое, ибо месть только и может относиться к тому, что было, и уже по этому одному, в сущности, консервативная муза, со старыми словами, вариациями и тонами. Вот этой «музе мести и печали» у Некрасова у Достоевского соответствовала «муза», которую я не умею лучше сравнить ни с чем, как с галкою или вообще птицею, сидящею на крыше дома, в момент, когда она, увидев что-то или понадеявшись на что-то, а может быть, просто «соскучась сидеть на одном месте», вытянула длинно шею, поднялась на пальцы ног и подняла крылья, но еще не взмахнула ими и потому единственно не отделилась от крыши, но сейчас отделится. Куда? С какою судьбою? «На восстание многих или на падение многих» (евангельский термин), – неизвестно, неизвестно самой птице, неизвестно самому Достоевскому. Мы, наконец, скажем эту главную тайну его биографии и главный смысл его лица, исторического его лица, биографического его лица, – что он сам, «наш Федор Михайлович», был от «аза» и до «ижицы», от лона матери и до могилки в Александро-Невской лавре, «тоскующим русским мальчиком», «скитающимся русским человеком», – только им и всецело им; то «желторотым», как Иван, то «с девичьим лицом и совсем юненьким», как Алеша, готовым проклинать, звать, проповедывать и отрицать. Словом, «у галки ноги почти отделились». В этом суть всего.
Загорит, заблестит луч денницы, – как процитировал или сочинил Достоевский в отношении евреев, «готовых покинуть Европу» и уйти в Ханаан:
И кимвал, и тимпан, и цевницы,
И сребро, и добро, и святыню
Понесем в старый Дом, в Палестину.
Тут смысл – что: важна музыка. Важна тоска. Важно, что хочется откуда-то выйти, но таким страшным «уходом», от которого «на старом месте» вообще ничего, кроме мусорных ям и загаженных мест, ничего не останется, а где-то «далеко-далеко» зародится новая земля, новая жизнь, в сущности, совсем другая цивилизация, в сущности, совсем иная культура… «Галка еще не полетела», но это все равно. В маленькой ее головке, может быть, неумной, может быть, безумной, совсем нет идеи «дома», на крыше коего она сидит и до которого ей совершенно и окончательно нет никакого дела, хоть сгори, хоть упади, хоть превратись в сновидение. Достоевский – величайший русский «странник», доведший идею «странничества», инстинкт «странничества», тоску его, необходимость «вот-вот сейчас взять котомку и посох и выйти» до какой-то истерики, муки, проклятий и той черты, где «вот-вот только еще стекла не полетели». Он есть «самый будущий русский человек», – таково его определение; в противоположность консерватору Некрасову, все возившемуся «с крепостным правом» и «памятью своей матери», точно его воспитала мамаша Манилова, случайно вышедшая замуж за Собакевича и завещавшая сыну «музу мести и печали»…
Вот отчего:
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется…
Вот отчего душа Достоевского вся зажигалась и трепетала, как только он видел, что «кто-то брал котомку и выходил»… Но новизна его, весь радикализм новизны, доведен был до того, что он «не воспользовался» ни одним из старых проклятий, ни одним из прежних отрицаний, не употребил ничего из жаргона Байрона, Руссо, Лермонтова, Гоголя, не впал ни в один стереотип отвращения и негодования, каким, собственно, переполнена и пресыщена Европа (как и Россия), и совершенно в параллель русским «странникам-бегунам», которые имеют вид «завсегдашнего мужика» и только про себя шепчут о всем мире: «Антихрист! Антихрист!» – и он, в параллель им, просто был «русским литератором, жившим в Свечном переулке» «с Анною Григорьевной» и «Федей и Любой» и, кроме того, совершенно дружившим с местным квартальным… Можно посмеяться: насмешник Гоголь хоть вывел «положительный тип» в купце Костанджогло, но Достоевский дошел до того, что решительно полюбил «милых, премилых» пристава и его помощника да еще какого-то при полиции письмоводителя, к которым, помните, пришел каяться Раскольников, а они ему говорили: «Ну, что вы на себя наговариваете: может ли такой образованный молодой человек совершить преступление?!» Согласитесь сами, что если Достоевский подсмеивался над Тургеневым, Грановским, (177) в ярости разрывал в клоки «идеи» проф. Градовского и «мысли» «Вестника Европы» и в то же самое время ничего оскорбительного для своего ума и своего вкуса, нравственного, как и художественного, не находил в уличных околоточных, – то «странничество» совершилось! Это – такой «переворот Европы», после которого от нее, ото всей цивилизации, которую решительно везде и во всем он оспаривал, и остались одни «постовые городовые». Байронисты возьмут «в новый мир» Байрона и все, что за ним последовало, из него вытекло; «вольтерианцы» возьмут 95 томов «Oeuvres» и салоны, где они читались; студенты – «все движение, начиная с декабристов», т. е. все возьмут, в сущности, очень много, целые области нашей цивилизации… Но «страннику Достоевскому» ничего этого не надо: верный беспредельному мистицизму своему, своей ужасной беспредметной тоске, беспредметной и потому всеобъемлющей, он отказывается от всяческих книг… и много-много, что, взяв томик Пушкина, притом неправильно понятый и перевранный, как вот раскольники перевирают Евангелие, и… какого-то Колю Красоткина, всего гимназиста III класса («Братья Карамазовы»), да «благообразного старца» (см. «Подросток», конец), потом чудака Версилова («Подросток»), «идиота» кн. Мышкина, «простака-рубаху» Разумихина («Преступление и наказание»), да вот трех «полицейских», все, «без исключения», хороших людей, и с ними… идет… к великим утешениям убийцы-Раскольникова, идет найти «разрыв-траву» или «жизненный эликсир» для умиротворения его сердца, для умягчения сердца Ивана Карамазова… в сущности, идет к отысканию средств залить мировую скорбь… скорбь преобразовать в радость… в восторг до потрясения вселенной, до колебания всех ее столпов…

В.В.Розанов несправедливо был забыт, долгое время он оставался за гранью литературы. И дело вовсе не в том, что он мало был кому интересен, а в том, что Розанов — личность сложная и дать ему какую-либо конкретную характеристику было затруднительно. Даже на сегодняшний день мы мало знаем о нём как о личности и писателе. Наследие его обширно и включает в себя более 30 книг по философии, истории, религии, морали, литературе, культуре. Его творчество — одно из наиболее неоднозначных явлений русской культуры.

Книга Розанова «Уединённое» (1912) представляет собой собрание разрозненных эссеистических набросков, беглых умозрений, дневниковых записей, внутренних диалогов, объединённых по настроению.В "Уединенном" Розанов формулирует и свое отношение к религии. Оно напоминает отношение к христианству Леонтьева, а именно отношение к Христу как к личному Богу.До 1911 года никто не решился бы назвать его писателем. В лучшем случае – очеркистом. Но после выхода "Уединенное", его признали как творца и петербургского мистика.

В.В. Розанов (1856–1919 гг.) — виднейшая фигура эпохи расцвета российской философии «серебряного века», тонкий стилист и создатель философской теории, оригинальной до парадоксальности, — теории, оказавшей значительное влияние на умы конца XIX — начала XX в. и пережившей своеобразное «второе рождение» уже в наши дни. Проходят годы и десятилетия, однако сила и глубина розановской мысли по-прежнему неподвластны времени…«Опавшие листья» - опыт уникальный для русской философии. Розанов не излагает своего учения, выстроенного мировоззрения, он чувствует, рефлектирует и записывает свои мысли и наблюдение на клочках бумаги.
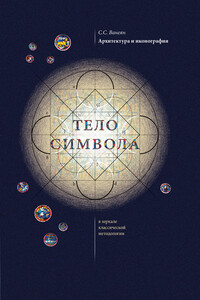
Впервые в науке об искусстве предпринимается попытка систематического анализа проблем интерпретации сакрального зодчества. В рамках общей герменевтики архитектуры выделяется иконографический подход и выявляются его основные варианты, представленные именами Й. Зауэра (символика Дома Божия), Э. Маля (архитектура как иероглиф священного), Р. Краутхаймера (собственно – иконография архитектурных архетипов), А. Грабара (архитектура как система семантических полей), Ф.-В. Дайхманна (символизм архитектуры как археологической предметности) и Ст.

Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания.
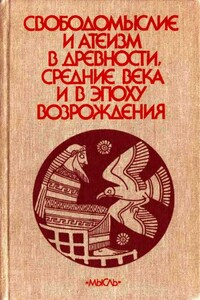
Атеизм стал знаменательным явлением социальной жизни. Его высшая форма — марксистский атеизм — огромное достижение социалистической цивилизации. Современные богословы и буржуазные идеологи пытаются представить атеизм случайным явлением, лишенным исторических корней. В предлагаемой книге дана глубокая и аргументированная критика подобных измышлений, показана история свободомыслия и атеизма, их связь с мировой культурой.

Макс Нордау"Вырождение. Современные французы."Имя Макса Нордау (1849—1923) было популярно на Западе и в России в конце прошлого столетия. В главном своем сочинении «Вырождение» он, врач но образованию, ученик Ч. Ломброзо, предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». Нордау возложил ответственность за эпоху декаданса на кумиров своего времени — Ф. Ницше, Л. Толстого, П. Верлена, О. Уайльда, прерафаэлитов и других, давая их творчеству парадоксальную характеристику. И, хотя его концепция подверглась жесткой критике, в каких-то моментах его видение цивилизации оказалось довольно точным.В книгу включены также очерки «Современные французы», где читатель познакомится с галереей литературных портретов, в частности Бальзака, Мишле, Мопассана и других писателей.Эти произведения издаются на русском языке впервые после почти столетнего перерыва.

В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.