О пережитом, 1862-1917 гг. - [2]
Кроткий, совсем немудрый старик, нежно любящий все живое и сам как бы часть среднерусской природы, стал олицетворением душевного покоя и равновесия, к которым стремился неуемный в творческих исканиях, стремлениях и страстях художник. А через год Нестеров пишет свою первую картину «Сергиевского цикла» — «Видение отроку Варфоломею», в которой поэтизирует Русь, русскую природу, стремясь найти нравственный идеал в глубоко и искренне верующем человеке далекого прошлого России — преп. Сергии Радонежском. Обе эти картины сразу же ввели его в круг молодых художников, воспитанных под эгидой передвижников, но все решительнее переходящих в оппозицию к основным тенденциям живописи своих учителей и предшественников. Это — члены так называемого «Абрамцевского кружка» — М. А. Врубель, К. А. Коровин, В. А. Серов, И. И. Левитан, А. М. Васнецов, И. С. Остроухов, Е. Д. Поленова, М. В. Якунчикова. В течение девяностых годов Нестеров оказывается одним из ведущих мастеров нового направления, с которым в конце века сблизятся петербуржцы-мирискусники во главе с А. Н. Бенуа. Все они в той или иной мере стремились к обновлению искусства, к одухотворению его, к выработке гибкого и выразительного живописного языка, не посягая еще в ту пору на основы реалистического метода второй половины XIX века. В основе их миропонимания, за исключением, может быть, лишь Врубеля и вышедшего на сцену в последние годы века Борисова-Мусатова, лежала вера в живописную познаваемость зримого мира, ставшего для них только богаче, изменчивее, подвижнее, чем для их предшественников. Стремления их в большой мере определялись словами Нестерова, ставшего к этому времени создателем своего живописного мира, с особым «нестеровским» пейзажем, в котором живут одухотворенные действующие лица, опоэтизированные леса, поля, холмы и реки его родины. «Формулировать новое искусство можно так: искание живой души, живых форм, живой красоты в природе, в мыслях, сердце, словом, повсюду»>[2]. Вместе с тем было бы неверным пытаться увидеть в творчестве самого Нестерова и ряда художников — его сверстников и в эти годы соратников да и мастеров меньшего масштаба, но идущих тем же путем поисков нового в живописи, не только тематическое, но и стилевое единообразие. Если рассматривать новую живопись рубежа века в целом, то можно говорить о сосуществовании в ней расширенного и углубленного понимания «классического» реализма XIX века с импрессионистическими тенденциями и элементами модерна.
Нестеров в своих станковых работах этого периода придерживается не импрессионизма, а, скорее, пленэризма живописи Ж. Бастьен-Лепажа (которого он высоко ценил), но притом, может быть и бессознательно, живописных приемов модерна как в продуманном композиционном, так и в сдержанном колористическом решении своих произведений. Однако в двух своих картинах 1898–1899 годов — «Чуде» и особенно в «Димитрии царевиче убиенном» — он, благодаря мистически воспринятому и убедительно переданному содержанию, подходит вплотную к началам русского живописного символизма. Нестеров проникает в скрытую духовную сущность темы, в то, что «сквозит и тайно светит» в картине, но не всегда может быть высказано словами или изображено «буквально», как, например, по мысли живописца, — скорбь матери о погибшем сыне.
К началу XX века Нестеров — признанный творец своеобычного поэтического мифа, создатель особого «нестеровского» пейзажа с оттенком ностальгического историзма, «нестеровского» святого («Юность преподобного Сергия», «Преподобный Сергий Радонежский», «Труды преподобного Сергия»), «нестеровской» девушки с мятущейся душой («На горах», «Великий постриг»).
Параллельно с работой над картинами, а в огромной мере и отвлекая живописца от них, развивается другая область нестеровского творчества: за период девяностых годов он становится, наряду с В. М. Васнецовым, и не без его влияния, ведущим церковным живописцем России.
В течение нескольких лет он работает над росписями Владимирского собора в Киеве — главного церковно-художественного деяния России конца восьмидесятых — начала девяностых годов. Сразу же по окончании его Нестеров получает заказ на эскизы для мозаик церкви Воскресения в Петербурге (в просторечии Спаса на Крови), а через несколько лет ему поручается осуществить роспись церкви Александра Невского в Абастумане, где жил в ту пору больной туберкулезом наследник — цесаревич Георгий Александрович. Параллельно он работает и над образами для церкви Герцогов Лейхтенбергских в Гагре. Эти и другие частные заказы на церковные росписи не приносят Нестерову творческого удовлетворения, и уже в 1901 году он в письме к своему другу А. А. Турыгину замечает: «Как знать, может, Бенуа и прав, может, мои образа и впрямь меня съели, может, мое „призвание“ не образа, а картины — живые люди, живая природа, пропущенная через мое чувство, словом — „опоэтизированный реализм“»>[3]. Нестеров при малейшей возможности, при любом перерыве в церковных работах обращается к «натуре», на которой он «как с компасом»>[4], к «живой жизни», хотя и переданной им в романтико-поэтическом преломлении. Собирая материал для будущих картин, он едет в Соловецкий монастырь, на Волгу, на родину — в Уфу (счастливым результатом первой поездки стали картины «Молчание» и «Мечтатели», второй — «За Волгой»).

«Пазл Горенштейна», который собрал для нас Юрий Векслер, отвечает на многие вопросы о «Достоевском XX века» и оставляет мучительное желание читать Горенштейна и о Горенштейне еще. В этой книге впервые в России публикуются документы, связанные с творческими отношениями Горенштейна и Андрея Тарковского, полемика с Григорием Померанцем и несколько эссе, статьи Ефима Эткинда и других авторов, интервью Джону Глэду, Виктору Ерофееву и т.д. Кроме того, в книгу включены воспоминания самого Фридриха Горенштейна, а также мемуары Андрея Кончаловского, Марка Розовского, Паолы Волковой и многих других.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Абвер, «третий рейх», армейская разведка… Что скрывается за этими понятиями: отлаженный механизм уничтожения? Безотказно четкая структура? Железная дисциплина? Мировое господство? Страх? Книга о «хитром лисе», Канарисе, бессменном шефе абвера, — это неожиданно откровенный разговор о реальных людях, о психологии войны, об интригах и заговорах, покушениях и провалах в самом сердце Германии, за которыми стоял «железный» адмирал.

Максим Семеляк — музыкальный журналист и один из множества людей, чья жизненная траектория навсегда поменялась под действием песен «Гражданской обороны», — должен был приступить к работе над книгой вместе с Егором Летовым в 2008 году. Планам помешала смерть главного героя. За прошедшие 13 лет Летов стал, как и хотел, фольклорным персонажем, разойдясь на цитаты, лозунги и мемы: на его наследие претендуют люди самых разных политических взглядов и личных убеждений, его поклонникам нет числа, как и интерпретациям его песен.

Начиная с довоенного детства и до наших дней — краткие зарисовки о жизни и творчестве кинорежиссера-постановщика Сергея Тарасова. Фрагменты воспоминаний — как осколки зеркала, в котором отразилась большая жизнь.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.
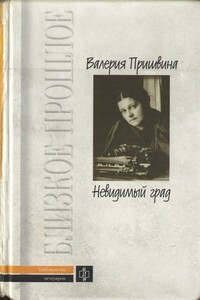
Книга воспоминаний В. Д. Пришвиной — это прежде всего история становления незаурядной, яркой, трепетной души, напряженнейшей жизни, в которой многокрасочно отразилось противоречивое время. Жизнь женщины, рожденной в конце XIX века, вместила в себя революции, войны, разруху, гибель близких, встречи с интереснейшими людьми — философами И. А. Ильиным, Н. А. Бердяевым, сестрой поэта Л. В. Маяковской, пианисткой М. В. Юдиной, поэтом Н. А. Клюевым, имяславцем М. А. Новоселовым, толстовцем В. Г. Чертковым и многими, многими другими.
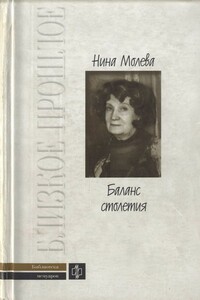
«Баланс столетия» — это необычайно интересное мемуарное повествование о судьбах той части русской интеллигенции, которая не покинула Россию после Октябрьского переворота, хотя имела для этого все возможности, и не присоединилась к «исходу 70-х годов». Автор книги — известный искусствовед, историк и писатель Н. М. Молева рассказывает о том, как сменявшиеся на протяжении XX века политические режимы пытались повлиять на общественное сознание, о драматических, подчас трагических событиях в жизни тех, с кем ассоциировалось понятие «деятель культуры».
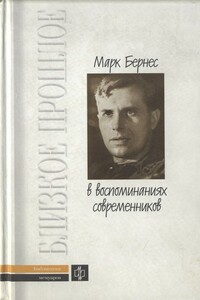
В книге собрано и соединено воедино все самое ценное о замечательном артисте и певце, создателе собственного и любимого народом «песенного мира» Марке Наумовиче Бернесе. Его игра отличалась жизненной правдивостью, психологической точностью и глубиной, обаянием, мягким юмором. Широкую известность актер получил после выхода кинофильма «Человек с ружьем», в котором исполнил песню «Тучи над городом встали».Издание знакомит с малоизвестными материалами: неопубликованными письмами, различными документами, которые раньше не могли быть обнародованы из-за цензурных запретов, воспоминаниями и свидетельствами современников.
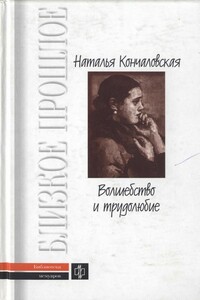
В книгу известной писательницы и переводчика Натальи Петровны Кончаловской вошли мемуарные повести и рассказы. В своих произведениях она сумела сберечь и сохранить не только образ эпохи, но и благородство, культуру и духовную красоту своих современников, людей, с которыми ей довелось встречаться и дружить: Эдит Пиаф, Марина Цветаева, хирург Вишневский, скульптор Коненков… За простыми и обыденными событиями повседневной жизни в ее рассказах много мудрости, глубокого понимания жизни, истинных ценностей человеческого бытия… Внучка Василия Сурикова и дочь Петра Кончаловского, она смогла найти свой неповторимый путь в жизни, литературе, поэзии и искусстве.