О неином - [4]
Николай. Ты направил по истинному пути свое рассуждение о Боге, наименованном как «неиное», чтобы в нем как в принципе, причине или основании, которое не есть ни иное, ни различное, рассмотреть все видимое человеку, насколько, конечно, это теперь тебе доступно. Доступно же оно постольку, поскольку само неиное, то есть основание вещей, открывает, или делает себя видимым, твоему основанию, то есть уму. Но теперь посредством неиного, поскольку последнее себя определяет, оно раскрылось яснее, чем прежде. Как оно представало для меня видимым прежде, ты мог прочитать во многих книгах. Теперь же в этом загадочном (aenigmate) наименовании неиного, понимаемого преимущественно в том смысле, что оно определяет себя самого, оно обнаруживает себя гораздо полнее и яснее, так что можно надеяться, что Бог некогда откроет нам самого себя вне загадок.
Фердинанд. Хотя в приведенных тобою предположениях заключается все, что мы можем увидеть, однако для того, чтобы побудить себя к более четкому рассуждению, коснемся некоторых сомнительных вопросов, чтобы путем их снятия созерцание, к которому мы стремимся, сделалось более доступным.
Николай. Хорошо, пусть будет так.
Фердинанд. Во-первых, жаждущий знания спрашивает, откуда следует брать основание для утверждения, что Бог, выраженный при помощи неиного, троичен и един, если неиное предшествует всякому числу.
Николай. Из сказанного ясно, что все усматривается существующим на одном основании, которое, как ты видел, состоит в том, что принцип, обозначенный через неиное, определяет самого себя. Итак, всмотримся в его развернутое определение, то есть что неиное есть не что иное, как нежное. Если одно и то же, трижды повторенное, есть, как ты видишь, определение первого принципа, то он действительно триедин и не на ином основании, как только на том, что он определяет себя самого. И он не был бы первым, если бы не определял самого себя. Но, определяя себя самого, он оказывается троичным. Итак, ты видишь, что троичность возникает из совершенства; однако, поскольку ты видишь ее прежде иного, ты не можешь ни исчислить ее, ни утверждать, что она есть число, потому что эта троичность не есть иное, чем единство; и единство не есть иное, чем троичность, поскольку как единство, так и троичность суть не что иное, как простой принцип, выраженный при помощи неиного.
Фердинанд. Я прекрасно вижу, что необходимость совершенства первого [начала] - поскольку последнее определяет самого себя - требует, чтобы оно было триедино, однако - до иного и числа, потому что то, что предполагает его как первое, ничего не прибавляет к его совершенству. Но так как ты уже не однажды пытался выразить при помощи других терминов эту божественную полноту тем или иным способом, в особенности, конечно, в «Ученом незнании», то сейчас будет достаточно небольшого прибавления.
Николай. Тайна троичности, воспринятая, несомненно, даром Божиим благодаря вере, хотя она далеко превосходит и опережает всякое чувство, не может быть объяснена ни иначе, ни более точным образом, чем так, как ты только что слышал, при том посредстве, через которое мы в настоящее время стремимся постичь Бога. Но те, кто именует Троицу Отцом, Сыном и святым Духом, приближаются к ней менее точно, однако пользуются этими именами надлежащим образом ради согласованности с Писанием. Те же, кто провозглашает Троицу единством, равенством и связью, подошли бы ближе к тайне, если бы эти термины оказались включенными в Священное писание9. Ведь это те термины, в которых ясно просвечивает неиное, потому что в единстве, обнаруживающем неотличенность от самого себя и отличность от иного, конечно, узнается неиное. При таком рассмотрении оно обнаруживается также и в равенстве, и в связи. Еще проще термины «это», «то» и «то же»: они более ясным и точным образом отражают неиное, но менее употребительны. Поэтому яснее всего триединый принцип раскрывается в словах: неиное, неиное и неиное, хотя это и менее всего употребительно и, кроме того, выше всякого нашего постижения и понимания. В самом деле, поскольку первый принцип, обозначенный как неиное, определяет самого себя, постольку в этом определяющем движении из неиного рождается неиное и на неином от неиного и рожденного неиного определение заканчивается,- в созерцании это можно увидеть яснее, чем на словах.
ГЛАВА 6
Фердинанд. Об этом достаточно сказанного. Теперь продолжай дальше и покажи неиное в ином.
Николай. Неиное не есть ни иное, ни иное иного, ни иное в ином; и это - ни на каком ином основании, кроме того, что оно никак не может быть иным, словно ему недостает чего-нибудь, как недостает иному. В самом деле, иному, поскольку оно есть иное в отношении чего-нибудь, не хватает того, в отношении чего оно - иное. Неиное же, так как оно не есть иное в отношении чего-нибудь, ничего не лишено, и вне Его ничего быть не может. Отсюда, раз без него нельзя ни высказать, ни помыслить ничего, что высказывалось бы и мыслилось без его посредства, без которого невозможно ни бытие, ни различение чего-либо,- поскольку оно предшествует всему такому,- в таком случае оно усматривается в себе как высочайше и абсолютно не иное, чем само же оно, и в ином видится как не иное, чем само же иное. Так, например, я скажу, что Бог не есть что-либо из видимого, раз он есть его причина и творец, и вместе с тем скажу, что в небе он есть не что иное, как небо. В самом деле, каким образом небо было бы не чем иным, как небом, если бы само неиное было в нем иным, чем небо? Небо же, раз оно отлично от не-неба, является по этой причине иным. А Бог, как неиное, не есть небо, которое является иным, хотя он не есть ни иное в нем, ни иное, чем оно. Подобно этому свет не есть цвет, хотя свет не есть ни иное в цвете, ни иное, чем цвет. Тебе следует обратить внимание на то, каким образом все, что может быть высказано или помыслено, по той причине не может быть тем первым, обозначенным через неиное, что все оно существует как иное в отношении своих противоположностей. Бог же из-за того, что он не иной для иного, еще не есть иное: хотя и кажется, что неиное и иное противоположны друг другу, но иное не противоположно Ему, раз имеет от него бытие в качестве иного, как мы сказали раньше. Как видишь теперь, правильно утверждают богословы, что Бог есть все во всем и в то же время ничто из всего10.

Николай Кузанский, Николай Кузанец, Кузанус, настоящее имя Николай Кребс (нем. Nicolaus Krebs, лат. Nicolaus Cusanus; 1401, Куза на Мозеле — 11 августа 1464, Тоди, Умбрия) — крупнейший немецкий мыслитель XV в., кардинал, философ, теолог, учёный, математик, церковно-политический деятель."Собираясь говорить о высшем искусстве незнания, я обязательно должен разобрать природу самой по себе максимальности. Максимумом я называю то, больше чего ничего не может быть. Но такое преизобилие свойственно единому. Поэтому максимальность совпадает с единством, которое есть и бытие."Перевод и примечания В.
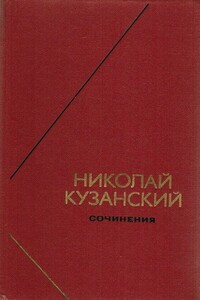
В первый том Сочинений включены все главные произведения созданные в 1440–1450 годах. В них развертывается учение Николая о совпадении противоположностей в первоедином, о творческой роли человека во Вселенной, намечается новая, предкоперниканская космология.
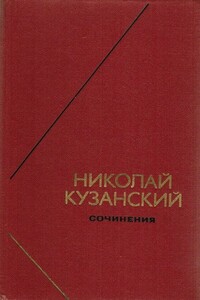
Во второй том Сочинений вошли его главные произведения 1449—1464 гг. «Апология ученого незнания», «О видении бога», «Берилл», «О неином», «Игра в шар», «Охота за мудростью» и др. На почве античной и средневековой традиции здесь развертывается диалектика восхождения к первоначалу, учение о единстве мира, о человеке как микрокосме и о цели жизни.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Жизнь — это миф между прошлым мифом и будущим. Внутри мифа существует не только человек, но и окружающие его вещи, а также планеты, звезды, галактики и вся вселенная. Все мы находимся во вселенском мифе, созданным творцом. Человек благодаря своему разуму и воображению может творить собственные мифы, но многие из них плохо сочетаются с вселенским мифом. Дисгармоничными мифами насыщено все информационное пространство вокруг современного человека, в результате у людей накапливается множество проблем.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.