О любви - [71]
Она подняла голову. Да. Берег уходит от нее.
«Меня уносит в море, – спокойно подумала она. – Ну что ж… Надо все-таки плыть к берегу».
Справа, довольно близко, показался пароход.
«Если он пройдет между мной и берегом, перережет мне путь и поднимет большую волну – мне не выплыть».
Пароход перерезал ее путь, направляясь к гавани, но волны не поднял, и Наташа поняла, как далеко отнесло ее от берега.
«Должно быть, я утону», – все так же спокойно подумала она.
И тут ей показалось, что нужно непременно что-то сделать такое, что всегда все делают, а она вдруг забыла. Что же это? Ах да – надо помолиться.
– Господи! – сказала она. – Спаси, помилуй и сохрани рабу Твою Нат… Да ведь не Наталья же я! Я Маруся, Мария…
И тут сразу же мгновенно вспомнила свой предутренний сон.
«Маруси еще нет», – шамкала бабушка.
«А когда же она прибу-у-удет?» – спрашивал дед.
Вот оно, это «у-у-у», так испугавшее ее во сне. Это «у-у-у» – это море. И как же она не поняла, что Маруся и есть она. Но теперь уж совсем не страшно. Теперь только смертельная усталость. А что они ждут, так ведь это хорошо. Это очень хорошо, что и ее кто-то где-то ждет.
Но сейчас все-таки надо плыть. Надо доработать свое заказанное, положенное на земле.
Она снова заглянула вниз, в зеленую бездну, снова увидела висящее над ней крошечное свое тело.
И ничего не было на свете. Ни жизни с Гастоном, ни любви к нему, к Госсу, к заблудшему мальчику, ни ужаса последних часов – ни-че-го. Она только спокойно удивлялась, как могло все это быть таким значительным и страшным!
Может быть, она еще и доплывет до берега. Но и это особого значения уже не имело.
И все-таки что-то нужно было. Выполнить какой-то старинный, далекий, вековой завет. Да… перекреститься нужно. Перекреститься. Просто: во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Она подняла руку, и тотчас острая, жгучая боль ударила ее в дыхание, обожгла мозг, зеленым звоном заполнила мир.
И она еще раз дернула головой, ловя воздух.
Шторм продолжался два дня.
Суровый пахарь трудно водил тяжелым своим плугом, резал упругую сине-зеленую почву, и она, вздымаясь, опадала белой пылью в глубокие борозды.
На третий день, когда тело Наташи прибило к берегу, к рыбачьей стороне за купальнями, море было спокойно и вечер, осененный ангельски-розовым крылом неба, – благостно тих.
Нашли тело рыбаки, спустившиеся к берегу выправить сети.
Сынишка одного из них, увидев издали приподнятую головку Наташи, маленькую в облепивших ее коротких волосах, побежал к дому, радостно крича:
– Мальчика поймали! Мальчика поймали!
Этот серебряный детский голосок так чудесно прозвенел в вечернем затихшем воздухе, что стоявший на берегу толстый патер улыбнулся и повернул свое доброе лицо старой нянюшки к молодому другу.
На пляже было почти пусто. Публика, напуганная плохой погодой последних дней, очевидно, разъехалась. Несколько немцев, пожалуй уже из местных жителей, сидели с газетами, подстелив коврики на сырой песок.
– Дело вступило в новую фазу, – сказал один из них, обращаясь к приятелю. – Арестован муж баронессы, дегенерат, почти идиот, живший на средства своей жены. «Со дня убийства, – начал читать немец, – барон ведет себя очень подозрительно. Он непрерывно смеется…»
Патер отвел своего друга подальше. Ему не хотелось, чтобы молодой человек слушал детали этой грязной парижской драмы дегенератов, великосветских кокоток и сутенеров.
Он показал ему розовую даль, обещающую чудесное счастье, и долго говорил о том, что день создан тоже по некоему образу и подобию, потому что рождается, живет и умирает. И что смерть сегодняшнего дня особо прекрасна, тиха и кристальна. Тихость моря, и благость неба, и даже мирный человеческий труд – вон там несут рыбаки что-то темное, должно быть, улов вечерний, – и серебряный радостный голосок ребенка…
– Чудесна смерть твоя, отходящий день!
И так как был он не только сентиментальный поэт, но и священник, то, подняв руку как бы для благословения, произнес последние слова, обращаемые на земле к отходящему:
«In manus Tuas, Domine»[68].
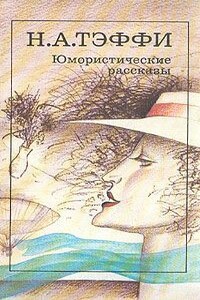
Книга Надежды Александровны Тэффи (1872-1952) дает читателю возможность более полно познакомиться с ранним творчеством писательницы, которую по праву называли "изящнейшей жемчужиной русского культурного юмора".

Среди мистификаций, созданных русской литературой XX века, «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“» (1910) по сей день занимает уникальное и никем не оспариваемое место: перед нами не просто исполинский капустник длиной во всю человеческую историю, а еще и почти единственный у нас образец черного юмора — особенно черного, если вспомнить, какое у этой «Истории» (и просто истории) в XX веке было продолжение. Книга, созданная великими сатириками своего времени — Тэффи, Аверченко, Дымовым и О. Л. д'Ором, — не переиздавалась три четверти века, а теперь изучается в начальной школе на уроках внеклассного чтения.
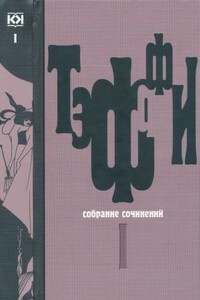
Надежда Александровна Тэффи (Лохвицкая, в замужестве Бучинская; 1872–1952) – блестящая русская писательница, начавшая свой творческий путь со стихов и газетных фельетонов и оставившая наряду с А. Аверченко, И. Буниным и другими яркими представителями русской эмиграции значительное литературное наследие. Произведения Тэффи, веселые и грустные, всегда остроумны и беззлобны, наполнены любовью к персонажам, пониманием человеческих слабостей, состраданием к бедам простых людей. Наградой за это стада народная любовь к Тэффи и титул «королевы смеха».В первый том собрания сочинений вошли две книги «Юмористических рассказов», а также сборник «И стало так…».http://ruslit.traumlibrary.net.
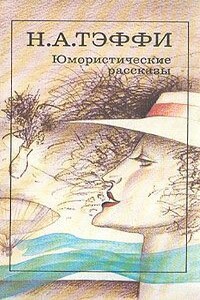
Книга Надежды Александровны Тэффи (1872-1952) дает читателю возможность более полно познакомиться с ранним творчеством писательницы, которую по праву называли "изящнейшей жемчужиной русского культурного юмора".

Надежда Тэффи, настоящее имя Надежда Александровна Лохвицкая (1872–1952), писала юмористические рассказы не только для взрослых, но и для детей. В эту книгу вошли такие произведения, как «Приготовишка», «Кишмиш», сказка «Чёртик в баночке» и другие. Дети в этих рассказах много размышляют над странностями взрослых людей и мечтают о чём-то небывалом. Тэффи по-доброму пишет про наивные детские поступки, отчего её рассказы излучают нежность и любовь к ребёнку. Иллюстрации современных художников С. Бордюга и Н. Трепенок. Для младшего школьного возраста.
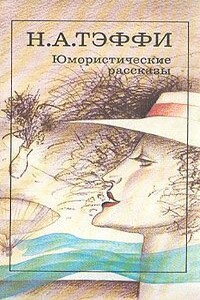
Книга Надежды Александровны Тэффи (1872-1952) дает читателю возможность более полно познакомиться с ранним творчеством писательницы, которую по праву называли "изящнейшей жемчужиной русского культурного юмора".

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.

Впервые в одной книге публикуются полностью все три прижизненных поэтических сборника Надежды Александровны Тэффи (1872–1952): «Семь огней» (1910), «Passiflora» (1923) и «Шамрам: Песни Востока» (1923), включая входившую в первый сборник и никогда не переиздававшуюся пьесу «Полдень Дзохары: Легенда Вавилона». Тэффи была увенчана при жизни титулом «королевы русского смеха» и популярна у читателя главным образом в этом качестве. Подборка сатирических и лирических стихотворений из дореволюционной и эмигрантской периодики, малоизвестные рассказы и пьесы, воспоминания расширят представление о многогранном таланте писательницы.
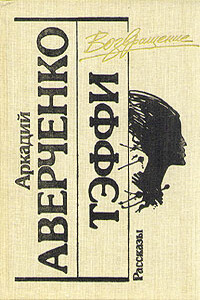
В книгу вошли лучшие рассказы крупнейших русских писателей-сатириков предреволюционной России Аркадия Аверченко и Тэффи. Большая часть этих произведений в СССР публикуется впервые. Сатирик, ставший свидетелем "роковых минут" мира, неизбежно превращается в трагика. Ф. М. Достоевский еще в XIX веке проницательно писал, что в подкладке русской сатиры всегда жила трагедия. Поистине трагической глубиной проникнуты рассказы Аверченко и Тэффи периода гражданской войны и эмиграции. Не случайно эти два автора оказались объединены в одну книгу, слишком многое роднит их: идеал, символ веры, вдумчивый и живой юмор, а главное - прошедшая все испытания любовь к России.

«Тэффи-юмористка – культурный, умный, хороший писатель. Серьезная Тэффи – неповторимое явление русской литературы, подлинное чудо, которому через сто лет будут удивляться». Слова Георгия Иванова оказались пророческими. Каждое новое издание Надежды Александровны Тэффи – любимейшей писательницы дореволюционного и эмигрантского читателя – обречено на успех. Поэтическое наследие Тэффи сегодня практически неизвестно, хотя в свое время стихи ее были очень популярны. На слова многих из них написаны романсы, прославившиеся в исполнении Александра Вертинского.В настоящий сборник впервые вошли все три прижизненных поэтических сборника писательницы, а также рассказы, пьеса и воспоминания.http://ruslit.traumlibrary.net.
