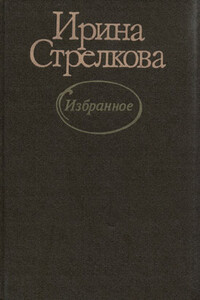— Ку-ка-ре-ку! — давясь, прохрипел петух, кося пренебрежительным масленым, как блестка икры, глазом из-под малинового царственного гребня. Огарков вздрогнул от этого кукарекания, волнуясь не на шутку. Шаги сами собой стали короче и реже. Подняв голову, он увидел у больничного садика крохотную Наташу. Он оторопел, но сообразил: это же ее дочь!
«Наша дочь! — и остановился… — Какая смышленая мордашка! Моя походка! Моя! — Он вытер щеку, кончиком языка слизнув соленую каплю с губ. Он не плакал никогда. Во всяком случае — с детства. — И что-то мое в лице!.. Наша дочь, моя дочь!» Подбежать, подхватить на руки, поцеловать, увезти! — но не двигался: напугается, не узнает. А как она может узнать? Хмель исчез, таким трезвым Огарков давно не был. «Надо вызвать Наташу, потолковать… — Он в смятении провел по густым волосам, на висках пробитых сединой. Не заметил, как сбил клок на лоб. — Хоть бы, кретин, конфету захватил. — Посмотрел на дочь. — Даже не знаю, как ее зовут!.. Что это у нее! Чехол от ножа! Ничего себе… воспитывает ребенка!» И он, не зная, о чем говорить, подошел, умиленный, растроганный чистотой ребенка, скованный неловкостью. Он не помнил себя таким. И эта умиленность, растроганность, эта режущая неловкость обнадеживали: «Не все, значит, выжгла водка. Ничто человеческое мне не чуждо».
Он видел чудесно пошитое синее платьице, празднично голубеющие два бантика в косичках. Но все не знал, с чего начать.
— Ты кто, девочка?
— Пограничница! — Она поднесла козырьком к глазам чехол и, щурясь («совсем как я!»), посмотрела ему в глаза.
— А это чей чехольчик от ножичка? — спросил он, презирая себя за сюсюканье.
— Мой! И нож у меня… знаете… какой! Мне Атахан подарил!
Значит, кто-то есть, если уж ножи дарят! «Нет, не отдам! Моя Наташа!»
— А где твой папа? — И он присел на корточки.
Она посмотрела на блестящие замочки портфеля, опустила чехол.
— Мой папа — герой, он погиб в пустыне!..
Огаркова толкнуло в грудь, он оперся на портфель. Ничего, ничего себе: похоронили. Дожил до собственной кончины и не знал, что давно уже — покойник.
— Кто тебе это сказал?
— Мама.
— А тебя как зовут? — спросил он, словно, узнав имя, получал право на нее, обретал власть, мог повелевать, мог изменить что-то в ее судьбе.
Она молчала. А ему стучало в сердце: «Похоронили. Погиб, герой. Герой, нечего сказать… Нет, выкуси! Жив я! Жив!» Хотелось выкрикнуть это, но сознавал, что ничего глупее придумать нельзя. А девочка, дочь, его дочь, доченька, имя которой еще не узнал и которую уже любил, да-да, любил, доченька была рядом. Готов был сейчас же, лишь появится Наташа, упасть на колени и просить прощения.
Девочка повернулась и сделала шаг от него. Он положил ей руку на плечо, и опять голова закружилась. Напеченное солнцем плечико существовало! Целая вселенная, зачатая им, целая жизнь дышала рядом с ним, но чужая ему.
— Как же тебя зовут? — Он не мог снять руку с ее плечика.
Она обернулась, сочувственно глядя: слеза сорвалась с его подбородка.
— Вы что-нибудь потеряли?
Он подумал: «Правда… потерял, а сколько — не расскажешь».
— Я, когда нож потеряла, тоже плакала-плакала, пока мне Павлик его не нашел. Павлик вернется, и мы с ним на границе служить будем…
— Как же тебя зовут, товарищ пограничник? — беря себя в руки, любяще улыбнулся он. Улыбнулась и она, остро напомнив Наташу.
— Юля, — с достоинством сообщила она.
— Юля. — Он помедлил, оценивая имя. «Нет, имя хорошее, значит, это будет Юлия Георгиевна…» — Юля, позови маму.
Огромная широкогрудая овчарка с разинутой горящей пастью подошла к Юльке, и девочка погладила свирепую голову, погладила и положила на клыки тонкую ручку.
— Что ты делаешь? — ахнул Огарков, словно положили его руку и он ощущал острия клыков. «Вот оно — свое, родное, вот как оно больно!» — подумал он, хотя со страхом ожидал, что клыки сомкнутся.
— Я ее люблю, кормлю, она у меня умная! — И Юлька, вынув руку, дружески потрепала глыбистую овчарку по голове. Та, довольная, пошевелила обрубком хвоста и посмотрела преданными человеческими глазами на Юльку, спрашивая: «Не обижает ли он тебя? Не нужна ли тебе моя помощь?»
— Иди, иди, гуляй, — обняла ее Юлька, бантики коснулись ушей овчарки, и обрубок хвоста задвигался еще приветливей.
— Позови маму, — переведя дыхание, напомнил Огарков.
— Ее нет.
— Как нет?
— Она уехала.
— Вам кого, гражданин? — спросила Гюльчара, с вязаньем в руках появляясь из-за ограды больничного садика.
— Наталью Ильиничну. Ог… Иванову.
— Она уехала по срочному вызову на четвертую буровую. Там. — И Гюльчара, поманив его жестом, на ухо шепнула так, чтобы Юлька не расслышала: — Там, говорят, ребенок умирает… А ты, Юля, иди гуляй, тут тебе около взрослых делать нечего.
— А давно Наташа… Наталья Ильинична уехала?
— Нет, если вы на машине, может, она вам и встретилась.
— Мы разминулись…
Он с грустной благодарностью кивнул Гюльчаре, стараясь не замечать, как она, силясь что-то припомнить, разглядывает его. Он оглянулся на Юльку: «Скоро вместе будем!» И пошел, побежал к машине.
— Так, — деловито потер он руки, когда «Победа» тронулась, сопровождаемая злобным лаем овчарки. Куры брызнули по сторонам. Машина вылетела из аула. Стучали в голове свои же слова — «мы разминулись». Стучали неотступно, неутомимо, все громче. Перед ним вставало лицо дочки Юльки, ее бантики праздничные, платьице, теплое плечо, рука в пасти овчарки. «Мой папа — герой, погиб в пустыне», — раня, его сердце, звучал голосок Юльки.