Нравы Растеряевой улицы - [14]
Он изредка высовывал сюда голову и грозно произносил: "Черти! аль вы очумели?" Солдат прятал пылавшую трубку в карман, бабы замолкали, но через несколько времени начиналась та же самая история. Порфирыч поэтому держался преимущественно в своей половине.
Прохор Порфирыч выбрал себе на житье другую половину избы, отделенную от кухни сенями с земляным полом. Маленькая комнатка его хоть и смотрела окнами в забор, но зато не предвещала того близкого разрушения, которым ежеминутно грозило жилище маменьки: стены были довольно крепки и прямы, окна не так гнилы и не так ввалились внутрь комнаты; тут же была особая печка с лежанкой. Некрасивый вид комнаты, при деятельном старании Порфирыча, принял некоторое благообразие. Перед окнами стоял станок, на котором Порфирыч обыкновенно высверливал дуло револьвера и зарядные отверстия в барабане; на этом же станке оттачивались как эти две штуки, так и все принадлежности замка, собачки, шомпола и другие части, которые доставляются кузнецом в самом аляповатом виде, едва-едва напоминающем настоящую форму оружия. Необходимые для этого инструменты были воткнуты за кожаный ремешок, прикрепленный к стене несколькими гвоздями. Над ними, у самого потолка, на больших гвоздях болтались вырезанные из листового железа фасоны разных частей оружия; по ним можно было проследить все "последние" растеряевские новости в мастерстве Прохора Порфирыча. Без пособия каких бы то ни было руководств, без самомалейших признаков какого-нибудь печатного лоскута по этому предмету, Прохор Порфирыч всегда умел "поддеть" самую последнюю новинку. Проезжий офицер из Петербурга, помещик, облетевший весь мир и возвращающийся в отечество с двумя-тремя десятками заграничных вещиц, никогда почти не ускользали от зоркого глаза Прохора Порфирыча. Гденибудь в гостинице Порфирыч убедительно просил такого проезжего дать вещицу "на фасон"; тут же, повертывая эту вещицу перед глазами, смекал, в чем дело; в крайних случаях прикидывал вещицу на бумагу и обводил наскоро карандашом, а до остального додумывался дома. Таким образом, в глуши, где-то в Растеряевой улице, Порфирыч знал, что на белом свете есть Адаме и Кольт, есть слово "система", которое он, впрочем, переводил в свою веру, отчего оно преображалось в "исцему". Мало того, пистолеты, выходившие из рук Порфирыча, носили изящно вытравленное клеймо: "Patent", смысл какового клейма оставался непроницаемою тайною как для Порфирыча, так и для травщика; но оба они знали, что когда работа украшена этим словом, то дают дороже.
Все остальное в комнате, не относившееся до мастерства, относилось исключительно до личных потребностей Прохора Порфирыча. Деревянная скрипучая кровать с грубым ковром, когда-то принадлежавшая растеряевскому барину, кожаная подушка того же барина, манишка на стене, сундук с тощими пожитками и, наконец, на лежанке, издали казавшейся грудою кирпичей, кусок тарелки с ваксой, сапожная щетка с оторванной верхней крышкой и оплывший сальный огарок в низеньком жестяном подсвечнике. Все эти признаки убожества в глазах Прохора Порфирыча принимали совершенно другое значение, потому что говорили о собственном его хозяйстве.
Сени также не пропали даром: в них было "положено" спать подмастерью, которого Порфирыч скоро "припас" для себя. Подмастерье этот был не из т — ских; он был тамбовец и на счастье Порфирыча обладал таким множеством собственных бед, что вовсе не требовал за собою ни строгого присмотра, ни понуканья, ни ругательств. Он был почти вдвое старше Порфирыча, испытал наслаждение быть полным хозяином, имел благородную жену, которая и помутила всю его жизнь, доведя наконец до того, что он, Кривоногое, бежал из родного города куда глаза глядят. В Т. проживал он без билета, что составляло его ежеминутную муку. Ко всем этим несчастиям присоединилось еще одно, едва ли не самое страшное, именно непомерная сердечная доброта, покорливость и ежеминутное сознание своей ничтожности. Такие беды сделали из него горчайшего пьяницу, но опасность попасть в пьяном виде в полицию, а потом в руки жены иногда могла удержать его в пределах одного шкалика в сутки. Прохор Порфирыч, имевший возможность по крайней мере раз тысячу убедиться в честности своего подмастерья, знавший полную его неспособность сделать какую-нибудь гнусность, все-таки, уходя из дому, заглядывал в кухню и говорил бабам:
— Присматривайте за этим молодцом-то!
Самою задушевною собеседницею подмастерья была Глафира; при ее помощи как-то таинственно являлась выпивка, соленый огурец, потом, благодаря им, тянулись долгие разговоры шепотом, ибо грозная тень Порфирыча невидимо витала в мастерской. Подмастерье рассказывал про свое имущество, что "всего было", как он с полицеймейстером пил шампанское на балконе, как ходил за женой в маскарад, куда она укатила с офицерами. Потом еще более глубоким шепотом присовокуплял, как жена его била и ругала. При этом дело происходило так. "Харя!" — говорила ему жена, на что будто бы Кривоногое отвечал: "Покорнейше вас благодарю!" — "Рогожа!" — "Чувствительнейше вас благодарю!.." Разлетится, разлетится, по щеке — хлоп! "Сделайте вашу милость, еще…"

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
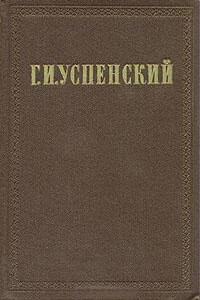
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

«Это просто рассказ… о личном знакомстве человека улицы с такими неожиданными для него впечатлениями, которых он долго даже понять не может, но от которых и отделаться также не может, критикуя ими ту же самую уличную, низменную действительность, к которой он сам принадлежит. Тут больше всего и святей всего Венера Милосская… с лицом, полным ума глубокого, скромная, мужественная, мать, словом, идеал женщины, который должен быть в жизни — вот бы защитникам женского вопроса смотреть на нее… это действительно такое лекарство, особенно лицо, от всего гадкого, что есть на душе… В ней, в этом существе, — только одно человеческое в высшем значении этого слова!» (Глеб Успенский)
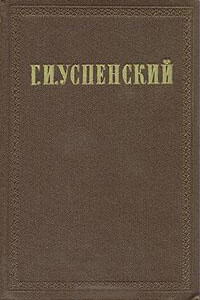
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
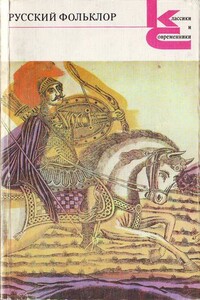
В книгу вошли наиболее известные и популярные образцы русского устного народного творчества, публиковавшиеся в разное время в сборниках известных учёных-фольклористов XIX–XX вв.
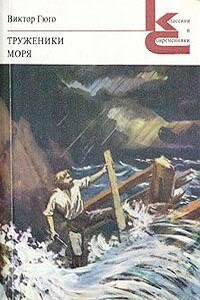
Роман французского писателя Виктора Гюго «Труженики моря» рассказывает о тяжелом труде простых рыбаков, воспевает героическую борьбу человека с силами природы.

Роман советского писателя, лауреата Ленинской премии М.Г. Маркова повествует о жизни сибирских крестьян в дореволюционную эпоху, о классовом расслоении деревни, о событиях в период Октябрьской революции и гражданской войны в Сибири.

Роман Кена Кизи (1935–2001) «Над кукушкиным гнездом» уже четыре десятилетия остается бестселлером. Только в США его тираж превысил 10 миллионов экземпляров. Роман переведен на многие языки мира. Это просто чудесная книга, рассказанная глазами немого и безумного индейца, живущего, как и все остальные герои, в психиатрической больнице.Не менее знаменитым, чем книга, стал кинофильм, снятый Милошем Форманом, награжденный пятью Оскарами.