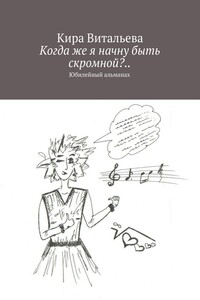страннобыло бы объяснятьтакое. Они бы не поняли — я этознал. И снова я разразился судорожными, безутешными рыданиями…
Для некоторого равновесия мне пришлось потом исполнить роль и страдательную. Правда, это было уже в четвертом классе или в пятом — мы жили в Черемушках. Со мной учился мальчик Алеша Хозяинов. Мы с ним дружили, хоть и не слишком тесно. Во всяком случае, симпатизировали друг другу. Обменивались марками… И вот этот Алеша Хозяинов однажды на перемене нанес мне страшный удар по лицу — ни с того ни с сего. Причем я стоял к нему спиной, и он, кажется, стоял спиной, но вдруг быстро развернулся и сзади, из-за моего плеча, мне заехал — я не помню, кулаком или раскрытой ладонью — так сильно, что у меня перехватило дыхание. Но в следующую секунду он уже, перепугавшись, схватил меня в объятия и стал быстро, почти бессвязно надо мной причитать: «Ой, прости, прости меня! Ой, Коля, я не хотел, прости, прости меня!…». — И по всему этому я вдруг ясно понял, почувствовал — глубокое совпадение мое с ним: у него, оказывается, те же самые — или очень похожие — тайные проблемы, что и у меня! Он действительноне желал мне зла. Но в этой ситуации я нужен был емудля некоего эксперимента. Ну что ж, если б он знал, как это мне понятно, он бы так не убивался сейчас своей подлостью. Однако о таких вещах мы не умели изъясняться друг с другом.
3
Меня очень долго учили играть на пианино. Я учился покорно, но без энтузиазма, и все это оставило во мне след как длинная, непонятно кому нужная тягота… А вот то, что в первом и во втором классе меня учили еще и танцам, — это совершенно никакого следа не оставило, и об этом я вспоминаю лишь изредка, от случая к случаю, — каждый раз с удивлением.
Вот и сейчас — мне нужно вспомнить мои хореографические занятия в первом классе, и я оказываюсь в недоумении перед каким-то смутным образом музыкальной школы на Молчановке, который вдруг всплывает и предлагает себя. Была там эта школа или нет? Кажется, была. Кажется, она относилась к Гнесинскому училищу. Меня хотели отдать туда в фортепьянный класс, и даже было какое-то прослушивание, но меня не взяли — сказали, что все места заняты. Вместо этого предложили зачислить на виолончель, потому что у меня оказались подходящие для этого пальцы: длинные и тонкие. Взрослые посоветовались и оставили меня заниматься дома с учительницей.
Однако бабушка водила меня в ту школу на танцы. И вот почему я взялся сейчас об этом писать — потому что вспомнил девочку Катю Серову. Из всех детей, учившихся танцам, я помню только ее и поэтому предполагаю, что меня поставили с ней в пару (хотя четкое воспоминание отсутствует). Разумеется, моя бабушка сразу же познакомилась с ее бабушкой. И вот мы идем к ним домой, в гости. Наверное, мы зашли как-то после занятий, — они жили совсем рядом с музыкальной школой. Катя была правнучкой художника Серова, и дома у них висело много картин. Каких — не знаю: я ничего не помню, не видел, я смотрел только на «Похищение Европы». Как будто (мне теперь представляется) в комнате полумрак — может быть, настольная лампочка где-то горит, — и только Бык и сидящая на его спине Европа (осторожно опустившая взгляд в белую пену, бурлящую около ее поджатых босых ног[16]) ярко освещены. Такого потрясения от картины я не испытывал ни до, ни после, — наверное, всю жизнь. Мне кажется, она была громадной — во всю стену (над каким-то, вроде бы, диваном). Позже, когда в «Третьяковке» я увидел другой вариант, он разочаровал меня своими довольно скромными размерами… Картина в доме у Кати Серовой открыла мне нечто новое и удивительное, передала какую-то очень важную информацию, относящуюся — как я теперь думаю — к Эросу.
Нельзя сказать, чтобы Эрос до семи лет мне был незнаком. Напротив, мне кажется, что я его ощущал прямо с первых младенческих впечатлений. Как только очнулось сознание, так сразу при нем был уже готовый Эрос — в виде тайного, волнующего влечения к некоторым предметам. Причем волнение и тайна были неразрывны, как два полюса магнита. Обнаружение волнения казалось недопустимым,постыдным, но тайна была непоэтому, она былараньше. И — симметрично — волнение было не от возможного обнаружения тайны, а пребывало с ней тоже раньше, на более глубоком уровне.
Читали нам, например, «Золотой ключик», и меня влекли к себе лиса Алиса и кот Базилио. Почему-то это было связано с тем, что они —разбойники. Я чувствовал, что это очень важно. Но, ошибочно рационализируя, я полагал, что стыжусь обнаружить свое влечение к ним просто потому, что они —отрицательные герои. Меня возбуждала именно их порочность. Особенно — Алисы. Она представлялась главной, доминирующей в их банде. И мне страстно хотелось отождествиться с этой женской порочностью. У нас была кукла лисы, надевавшаяся на руку. Не в силах ничего с собой поделать, превозмогая стыд, на виду у взрослых, я брал эту куклу и изображал Алису —становился ею, а брата заставлял разыгрывать со мной кота Базилио. Он тоже что-то надевал на руку. Куклы кота у нас не было, но это уже не важно, кота можно было сделать из любой тряпки, — во всяком случае, это меня не волновало, а вот лиса на моей руке волновала — очень