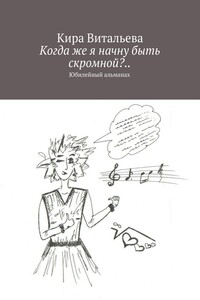[11], — значит, ответственны мы сами с Алешей. А какая может быть предъявлена ответственность в возрасте до семи лет? Что остается? — все свалить на стечение звезд (то есть все, что творится сейчас в нашей культуре, — когда действуют дети, возраставшие в 50-х и 60-х годах)?
Нет, было еще нечто, но я сейчас не умею об этом ничего рассказать. Это «нечто» прочно зашторено моей последней деятельностью в качестве галерейно-литературного деятеля…
Европейский карнавал (не современный, конечно, а настоящий, средневековый[12]) имеет очень четкое расположение во времени и очень резкие границы. Он мгновенно возникает и мгновенно прекращается. Таким образом он структурирует время («делу время, потехе час»), а вместе с временем структурирует и все культурное пространство — через длительности подключения к его различным областям… Наш детский карнавал представлял собой абсурд наподобиеоднополюсногомагнита: это была сплошная, тотальная «потеха», которая, ничего не структурировала, а наоборот — все смешивала в одно… Да пожалуй, время в ней совсем останавливалось — теряло направление и измерение… Но не это линеразличение, не этот ли остановленный, завороженный карнавал (потерявший своего «серьезного» близнеца) мы называем постмодернизмом?..
Несмотря на довольно строгое воспитание в семье, я очень надолго задержался в состояниинеразличения, долго не мог научитьсясерьезности жизни. Каким-то видам серьезности — например, «деланию карьеры» как последовательной постановке отчетливых целей и достижению конкретных результатов — я так и не выучился никогда. И все же большой фрагмент моей жизни — лет от двадцати до сорока — протек вполне структурированно и поступательно, — так сказать, «по-взрослому»… А потом, где-то с начала 90-х годов я опять попал в медленно кружащееся на одном месте детское карнавальное время — в то царство грезящих с открытыми глазами, в котором пребываю до сих пор.
КРЕСТИК И ГАЛСТУК
Моя бабушка, Лидия Алексеевна (которая, собственно говоря, является главной фигурой во всех моих воспоминаниях о детстве), была профессиональным педагогом. В конце 20-х — начале 30-х она, я думаю, учительствовала в школе на Пресне, где они тогда жили. (Возможно, в эту школу ходила моя мама.) Вела бабушка, скорей всего, русский язык и литературу — ибо была филологом по конструкции своей души и мышления… Но вскоре ей пришлось отказаться от уроков, поскольку во всех предметах (а в гуманитарных особенно) появился и стал назойливо требоваться антирелигиозный компонент. На это бабушка согласиться не могла, и она, оставив — не знаю, под каким предлогом — классы, стала заведовать школьной библиотекой. И прозаведовала ею до 1951 года, когда появился я. Затем она покинула работу вовсе (кстати, ей уже было 55 лет, так что могла выйти на пенсию) и посвятила себя воспитанию внуков — меня, Алеши (1953) и Оли (1954).
Что касается антирелигиозного компонента, то я успел испытать его на своей шкуре (душе). Столкнулся я с ним во втором классе — то есть это был 59-й год (самое хрущевье!). Из Трубниковского переулка я ходил в школу № 91, что на улице Воровского, перед Арбатской площадью (Калининского проспекта не было). Учительницу нашу звали Александра Александровна. Однажды на уроке русского языка она стала рассказывать про слово «спасибо» — то есть почему его надо писать «спасибО», а не «спасибА»: потому что оно происходит от «спаси Бог». Под этим предлогом Александра Александровна, добрая наша учительница, прочитала нам длинную и весьма назойливую лекцию о том, что никакого Бога на самом деле нет. Это было первое, испытанное мною, «общественное» мучение. Оно (с непривычки) было настолько остро, невыносимо, что я не знал, куда мне от него деться. Встать и поспорить с учительницей — ясно, что для ученика второго класса это вряд ли мыслимо. И все же я — в частном, так сказать, порядке — объявил своему соседу по парте: «А вот я — верю в Бога!». Нужно ли говорить, что вскоре об этом знал весь класс. Передали учительнице. На перемене она разыскала меня в коридоре и отвела в сторону. «Ребята говорят, что ты верующий», — сказала она тихо, полувопросительно. «Верующий», — подтвердил я, проваливаясь сам не зная куда (о, как труден подвиг исповедничества! может быть, он трудней всех прочих, а я узнал его уже тогда, в восьмилетнем возрасте). «И крестик носишь?» — «Ношу». Учительница помолчала, раздумывая, какой наступательный вопрос можно еще задать в этой бесхитростной ситуации. «А ты знаешь, зачем ты его носишь?» — наконец спросила она, и я отчетливо почувствовал в ее вопросе какую-тослабину. Но и сам я в ответе, что называется,промазал(как мне казалось потом) — потому что попал впросак: я не был готов к такой постановке (а к чему я мог быть готов?). Сходу я нашелся ответить только так: «Чтобы знали, что я верующий». Потом многие годы, воспроизводя в себе эту ситуацию, я мучился стыдом, что промямлил нечто невнятное вместо того, чтобы резануть нечто звонкое, типа: «Чтобы он меня охранял от зла». Но позже, под старость, я начал понимать, что — как это ни странно (ангел ли стоял за моей спиной и мне подсказывал?) — я дал учительнице наиболее правильный, пожалуй, ответ. Ибо крест-оберег — это все же для христиан-язычников. А для «чистых» христиан крест есть чистая манифестация, то есть знак их открытого