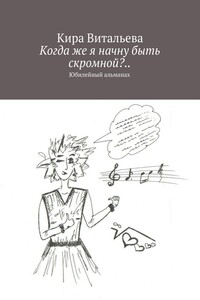— Вот вы получили дипломы, — говорил он наставительно, — и стали теперь интеллигентными людьми. Возьмите диплом в рамочку, повесьте его на стену и займитесь настоящим делом, которое приносит деньги.
— А ты-то сам что делаешь зимой, когда здесь сезон кончается? — спрашивали мы.
— Я, ребята, работаю в одном секретном министерстве. Мой кабинет недалеко от кабинета замминистра.
Глазки его при этом загадочно щурились, и он, перепрыгивая через загорающие тела, быстро убегал барахтаться в волнах.
Уже перед нашим отъездом Вася-Моня-Миша раскололся: он был частник и его настоящим делом, приносящим деньги, было так называемое плиссе — гофре. Это ремесло, дожившее до наших дней, было тогда особенно востребовано, потому что нарядную одежду купить в магазинах было невозможно, а женщины любили хорошо одеваться во все времена. Вывески “Плиссе — гофре” часто попадались на глаза в Москве, и, видимо, работы всем хватало.
Кто бы мог подумать тогда, что Васю-Моню-Мишу с его взглядами на жизнь можно было бы назвать человеком будущего. Сегодня, спустя полвека, для большинства молодых людей главным стимулом при выборе характера деятельности, как мне кажется, являются деньги. Или, вернее, большие деньги.
Во времена нашей молодости социальный статус людей, имеющих деньги, которые они побаивались афишировать, был крайне низок. Поэтому житейские советы Васи-Мони-Миши были оставлены без внимания, и конкуренции с нашей стороны он мог не опасаться.
В начале августа нам полагалось приступить к работе, и я вернулся в Москву. В министерстве мне сообщили, что на мой таинственный завод следует ехать троллейбусом с площади Дзержинского до самого конца, а там найти его уже нетрудно. Подъезжая к конечной остановке, я спросил у кондуктора, не знает ли она, где здесь большой завод.
— Так тебе, милок, наверное, прожекторный завод нужен, — сказала она. — Вот, гляди, его заводоуправление.
И она показала мне большое, импозантное здание, выстроенное в так называемом сталинском стиле.
Хороша секретность, подумал я, даже троллейбусный кондуктор знает, чем завод занимается. Да и что может быть секретного в производстве прожекторов.
Сбоку от центрального входа была дверь, над которой висела вывеска “Отдел кадров”.
Я толкнул эту громоздкую, тяжелую дверь, она отворилась и впустила меня в неизвестную, совершенно взрослую жизнь.
«Она трофей туманный в этом храме…»
В 1975 году, впервые оказавшись в Риме, во время импровизированной зигзагообразной экскурсии по городу я набрел на небольшой трехэтажный дом, в одной из комнат которого в 1821 году в возрасте 25 лет скончался от туберкулеза английский поэт Джон Китс. Впрочем, не набрести было трудно: этот дом стоит на знаменитой ступенчатой Piazza di Spagna, обойти которую стороной может только уж совсем незадачливый турист.
О Китсе я в ту пору имел довольно туманное представление — по переводам, попавшимся в хрестоматии, которые меня тогда почему-то не тронули. Но я зашел в эту комнату, ныне часть римского музея Китса и Шелли, — ничего из прижизненной обстановки не уцелело, все было сожжено сразу после смерти поэта по тогдашним санитарным правилам, но даже воссозданная имитация поражала аутентичностью, странным ощущением неизгладимой утраты, которого я больше нигде не испытывал — наверное, потому, что никогда в подобные музеи не хожу. В Риме я с тех пор был несколько раз, хотя в последний уже довольно давно, и всегда навещал эту маленькую выбеленную комнату.
В тот первый раз я почти тотчас наткнулся на англоязычный книжный магазин и приобрел там на скудное эмигрантское пособие сборник Китса, но фактически приобрел гораздо больше — одного из самых любимых поэтов на всю жизнь. Что же касается жизни самого Китса, то она была короткой и по всем параметрам несчастной. Он происходил из небогатой семьи и не смог получить положенного ему по таланту образования: он рано лишился отца и матери и всю жизнь нуждался, так и не получив в силу какой-то юридической оплошности завещанного ему скромного наследства. Болезнь и общее неблагополучие лишили его возможности связать свою судьбу с женщиной, которую он любил. Что касается литературной славы, то и этого ему при жизни не перепало — глупые и самодовольные рецензенты отзывались на его сборники в оскорбительном тоне, а более эффектные современники, тот же Шелли и Байрон, оставляли его в тени. Теперь и Шелли и Байрон заняли подобающие им места в истории литературы, а Китс по праву считается одним из самых выдающихся английских поэтов и уж точно одним из самых любимых.
Посмертная справедливость — одна из самых жестоких, но в случае Китса она была настолько ошеломляющей, что единственное приходящее на ум сравнение — с Винсентом Ван Гогом, хотя я бы не стал заводить эту параллель слишком далеко. Поразительнее всего, что в поэзии Китса практически отсутствует горечь и досада, на которые он имел, казалось бы, полное право. Иное дело — меланхолия, может быть, довольно расхожая эмоция для романтиков того времени, но из числа таких, о которых мы помним большей частью именно благодаря Китсу, окрашенная его голосом. На меня она производит впечатление пророческой ностальгии по миру, с которым ему предстояло расстаться так рано. Он видел в этой жизни то, что сегодня мы в состоянии увидеть только его глазами — и здесь, наверное, параллель с Ван Гогом точнее всего.