Новый мир, 2012 № 10 - [13]
Его тексты довольно сложны, и не только потому, что Константайн тяготеет к живым, не слишком “затертым” словарями словам. И даже не оттого, что он охотно использует местные специфические реалии, — но, вероятно, еще и потому, что любит некоторую неоднозначность читательского восприятия.
Для предлагаемой подборки выбраны те стихотворения Дэвида Константайна, где автор ярко и рельефно рисует образы — природного, человеческого, воображаемого — мира, в котором живет современный образованный англичанин его поколения.
Детские воспоминания лирического героя всплывают и в “Элегии” и в “Папоротнике”. “Элегия” рассказывает о реальном человеке, бродяге Пэдди Галлахере, жившем в начале 1970-х годов в Дархеме, где семья Константайнов содержала приют для бездомных. Дэвид с теплотой вспоминал, каким чудесным рассказчиком был Пэдди (в русской тюремной среде это качество именовалосьзвонарь). Иногда бродяга пропадал, среди горожан возникал слух, что он умер, но Пэдди всегда возвращался. Стихотворение наполнено малоизвестными у нас историческими персонажами и краеведческими приметами (ист-эндский бандит Ронни Клей, памятник лорду Лондондерри на рыночной площади Дархема и т. п.). Автор даже предлагал мне заменить эти реалии и рассказанные (или присочиненные) Пэдди истории чем-то более близким нашим российским декорациям с отечественными бомжами.
Будем надеяться, читатели сами во всем разберутся.
“Папоротник” также восходит к детским воспоминаниям — но уже не самого автора, а родителей его жены. Два голоса — вспоминающий и другой, верящий в жизненную необходимость сохранения памяти и побуждающий к воспоминаниям, — рисуют картину “утраченного рая” на островах Шилли.
…Стихотворение “Сенатор Пиночет” было написано, когда в Англии стало известно, что бывший чилийский диктатор ходатайствует об английском гражданстве. В оригинале текст называется “Сенатор”, и понять, что речь в нем идет о Пиночете, можно только из деталей стихотворения. Обладавший тройным иммунитетом (бывший глава государства, бывший главнокомандующий и пожизненный сенатор) генерал Аугусто не мог быть привлечен к суду в процессах по делам тайно репрессированных во времена его правления. Однако, пока шла долгая процедура лишения иммунитета, пока сенатора привлекали в качестве свидетеля, чилийцы без всяких комментариев развешивали на стенах домов фотографии без вести пропавших людей. Вероятно, кто-то может посчитать нелепым и странным, что автор пишет стихи, пользуясь информацией СМИ (да еще оперируя такой азбучной истиной, как невозможность уйти от памяти и совести с помощью политического иммунитета). Однако и прочитанное в газете может поразить поэта не меньше, чем лично пережитое. А то, что дороже всего приходится платить за пренебрежение азбучными истинами, хоть тоже и азбучная, но, по крайней мере со времен Киплинга, вечно новая истина.
Элегия
Говорят, что ты умер, что это точно, определенно;
Отовсюду — назовем их устные некрологи, что ли? И
Даже объявился очевидец из Дарлингтона —
Врун, ясное дело. Уж мы-то знаем, это не более
Чем твоя очередная фантастическая история.
В шляпе фетровой набекрень бродишь ты в чадящем дыму,
Кого-нибудь новенького поджидая нетерпеливо,
Чтобы брызги твоих историй достались теперь ему;
Так, бродя и лопаясь пузырьками, ждет на столе холодное пиво
Отошедшего в сортир отлить; а расскажешь ты, например, почему
Коньки откинувшего хмыря, скорченного артритом,
Привязали к доске? — А иначе в гроб не положишь! Но кто-то в полночь
Перерезал веревку. И вот с кривой ухмылкой, со скрипом
Хмырь садится в гробу. Тут в могильщика рту открытом
Поместилось бы… что? Океан? или маленький котлован всего лишь?
А помнишь тех парней из покойницкой? Их вызывали,
Чтоб с дороги тебя забрать, росою покрытого.
Они завтраком подкрепились, принесли носилки, похожие на корыто. Вот
Только тут ты приоткрыл один глаз, в финале.
Ну а мы, как всегда, хохотали и только ждали — а не пора ли
Вновь собраться вокруг тебя, лежащего в газетах, в росе,
Похожего на зародыш-выкидыш. И чтоб у костра ты сел,
Пальцы, как торчащие прутья, сцепил вокруг кружки с чаем
И, грея в чае свой нос, рассказал бы нам об отчаянном
Парне из Мазервелла, который на спор однажды съел
Триста живых мальков — проглотил, но остался цел.
Ты в лицах изображал и очаровашку-гангстера Ронни Клея;
И лорда Лондондерри, на чей памятник мы глазея,
Знали, что он был на равных с твоим отцом; и индийского доктора, что хотел
Ампутировать всем и все; и еще персонажей, чтоб вышло круче и веселее.
Так что если тот врун из Дарлингтона не врал — что ж, здорово:
Значит, от рассказа от твоего, подробного и нескорого,
Дьявол сейчас, в клубах дыма, замерев и разинув рот,
Вилы подняв, пока ты задницу греешь, продолжения ждет
Твоей истории про парня из Экклса, у которого… у которого… у которого…
Папоротник
Были овцы на пастбищах, что в реке островками;
Мы с отцом подвозили еще пополненье в отары их,
А отец отца построил овчарню своими руками…
Теперь нет ничего — только папоротник,
Вместе с водой все собой затопил он,
Даже трудно сейчас представить, что здесь когда-то было.

Автор рассказов этого сборника описывает различные события имевшие место в его жизни или свидетелем некоторых из них ему пришлось быть.Жизнь многообразна, и нередко стихия природы и судьба человека вступают в противостояние, человек борется за своё выживание, попав, казалось бы, в безвыходное положение и его обречённость очевидна и всё же воля к жизни побеждает. В другой же ситуации, природный инстинкт заложенный в сущность природы человека делает его, пусть и на не долгое время, но на безумные, страстные поступки.

Героиня этого необычного, сумасбродного, язвительного и очень смешного романа с детства обожает барашков. Обожает до такой степени, что решает завести ягненка, которого называет Туа. И что в этом плохого? Кто сказал, что так поступать нельзя?Но дело в том, что героиня живет на площади Вогезов, в роскошном месте Парижа, где подобная экстравагантность не приветствуется. Несмотря на запреты и общепринятые правила, любительница барашков готова доказать окружающим, что жизнь с блеющим животным менее абсурдна, чем отупляющее существование с говорящим двуногим.

Карл-Йоганн Вальгрен – автор восьми романов, переведенных на основные европейские языки и ставших бестселлерами.После смерти Виктора Кунцельманна, знаменитого коллекционера и музейного эксперта с мировым именем, осталась уникальная коллекция живописи. Сын Виктора, Иоаким Кунцельманн, молодой прожигатель жизни и остатков денег, с нетерпением ждет наследства, ведь кредиторы уже давно стучат в дверь. Надо скорее начать продавать картины!И тут оказывается, что знаменитой коллекции не существует. Что же собирал его отец? Исследуя двойную жизнь Виктора, Иоаким узнает, что во времена Третьего рейха отец был фальшивомонетчиком, сидел в концлагере за гомосексуальные связи и всю жизнь гениально подделывал картины великих художников.

Как продать Родину в бидоне? Кому и зачем изменяют кролики? И что делать, если за тобой придет галактический архимандрит Всея Млечнаго Пути? Рассказы Александра Феденко помогут сориентироваться даже в таких странных ситуациях и выйти из них с достоинством Шалтай-Болтая.Для всех любителей прозы Хармса, Белоброва-Попова и Славы Сэ!
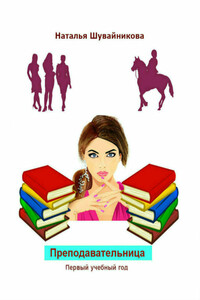
Порой трудно быть преподавательницей, когда сама ещё вчера была студенткой. В стенах института можно встретить и ненависть, и любовь, побывать в самых различных ситуациях, которые преподносит сама жизнь. А занимаясь конным спортом, попасть в нелепую ситуацию, и при этом чудом не опозориться перед любимым студентом.

Название романа швейцарского прозаика, лауреата Премии им. Эрнста Вильнера, Хайнца Хелле (р. 1978) «Любовь. Футбол. Сознание» весьма точно передает его содержание. Герой романа, немецкий студент, изучающий философию в Нью-Йорке, пытается применить теорию сознания к собственному ощущению жизни и разобраться в своих отношениях с любимой женщиной, но и то и другое удается ему из рук вон плохо. Зато ему вполне удается проводить время в баре и смотреть футбол. Это первое знакомство российского читателя с автором, набирающим всё большую популярность в Европе.
