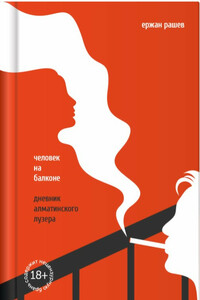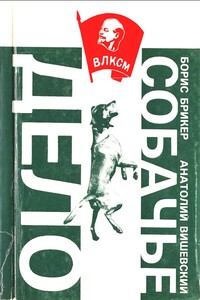Ну Генка же и мастер преувеличивать… Хотя что-то он угадал: я любил повеселиться, покрасоваться, поплясать, потискаться, но никогда не забывал, что все это тлен и суета, что настоящие подвиги у меня впереди. Мне и девочки поэтому нравились восторженные, а не томные, как Замятнина. Вся в голубом, томно оглядывает себя в зеркальном шкафу спереди, потом, через плечо, еще более томно сзади… То ли дело Вика.
“А для меня в Америке секс превратился в какую-то каторгу. Грузинская потенция требовала выхода, и женщинам я нравился, особенно когда разжился хорошей работой. Но ведь в этих ситуациях требуются какие-то ласки, слова — накатывала такая тоска, что иногда я бежал в ванную и там рыдал, как маленький. Мои дамы убеждались, что загадочная русская душа, Dostoevsky — не пустые слова”.
Да, это ностальжи так ностальжи…
“Боль оставляла меня, только когда я спал, но и сны мои были самые ужасные. Однажды, взяв два или три дня отпуска, я сел на поезд и, приехав в Вашингтон, направился в советское посольство на 16-й улице. Минут через двадцать вошел приятной наружности и таких же манер мужчина. „Знаете, Геннадий Александрович, здесь не совсем удобно говорить. Давайте встретимся вечером часов в шесть, пообедаем, и вы мне все расскажете”. Я согласился.
Действительно, точно в шесть подъехал маленький автомобиль, и мы поехали в ресторан. Звали этого человека Виктор, он просил по фамилии его не называть. Лева, продолжу завтра прямо с этого места. Даже радость не делает наши силы бесконечными.
Да, посмотри в прицепке на нас с Ленкой на корпоративной party”.
На цветном снимке с бокалами в руках была запечатлена счастливая рекламная пара — седеющий Пол Ньюмен в смокинге и бабочке и однофамилица моей мамы в девичестве актриса Ковальчук из сериала “Мастер и Маргарита”. Я едва дотерпел до конца работы, и ответ меня уже ждал.
“Лева, то, что ты не занимаешься наукой, — это не просто личное несчастье и личная трагедия. Это, in fact, по большому счету, государственное преступление, acrime. Государство, кое преднамеренно воспрепятствовало личности вложить свою лепту в общее благо, тем самым вынуждает эту личность в лучшем случае эту лепту разрушить, а в худшем — отнести ее к врагу. В 1983 — 1984 гг. в Orlando, я работал консультантом для компанииMartin Marietta,она занимается конструкцией ракет для подводных лодок. То есть работал против своих. А ты на это не пошел, хотя имел в тысячу раз больше причин. Ты опять дал мне моральный урок.
Обед с консулом я тоже буду помнить всю жизнь. Г-н консул ошарашил меня тем, что вытащил из своего дипломата папку с моим именем. Подошел официант. „Мы готовы, пожалуйста, для меня — пекинского гусенка, а молодой человек? — и, вопросительно обратившись ко мне, добавил: — Не стесняйся, обед за мной”. Я ничего в меню не знал и заказал то же, что и он. „Ну! — обратился он ко мне. — Выкладывай. Так. И чего просишь?” — „Не могу жить без нее. Пустите ее ко мне”. Он дочитал странички из папки. „Твоя жена пишет, что мать твоя работала в подполье при немцах, а после войны при коптилке читала тебе Пушкина. Вот изволь, буря-мглою-небо-кроет...” Да, коптилка таки коптила ужасно черной сажей от желтого огня, отдельных слов я не различал, все сливалось в одно длинное сладостное звучание: вихри-снежные-крутя, то-как-зверь-она-завоет... Виктор с участием и пониманием продолжал: „Да, брат, жаль мне тебя, уж если любишь Пушкина, то совсем зря ты сюда приехал”. Мое сердце упало, я молчал.
И ты не поверишь, я вспомнил, как лично ты, прослушав вступление к „Борису Годунову”, заметил мне: бедная, холодная, голодная Русь. А ведь ты в музыкальных школах и училищах, сколько я знаю, не обучался. Но ты чувствовал, в своих худых ботинках, в своем сером тонком пальто хлюпая по лужам в холодном Ленинграде, о чем эта музыка, а я слышал только очень красивую мелодию в минорной тональности. Глупая, несчастная Россия, я знал одного еврея, стоящего тысячи коренных! Хорошо, положим, ты неординарный. Ну а как насчет еврея, тащившего за ноги моего отца из-под огня? Человек, тащивший папу, был убит наповал, уже дотащив его до траншеи.
Если бы я только мог, то заорал бы на всю Россию: господа, дорогие мои соотечественники, коренные и менее, русские, евреи, грузины, татары, сколько вас ни есть, перестаньте грызться! На вас надвигается новый мир, в котором вам отведена участь ну пусть не рабов, но лузеров! Вы все окажетесь в моем положении — все, чем вы гордитесь, объявят смехотворным! Все хорошее, умное, благородное, будет считаться, есть только у хозяев нового мирового порядка, а вы должны у них только учиться, учиться и учиться, а сами вы ничего не стоите, и предки ваши были такое же дурачье. Но заорать нельзя. Мне Ленкины родичи прямо говорили: приехал нас учить! И правда, смешно, когда я, невозвращенец, призываю беречь Родину. Но она такая штука, что пока ее не потеряешь, не поймешь, что она такое. Я думал, Родина — это где лично тебя уважают. А оказалось, где уважают твоих предков. Понимаешь, Лева? Если даже вам самим будет хорошо, во что я не верю, все равно нашим предкам будет плохо.