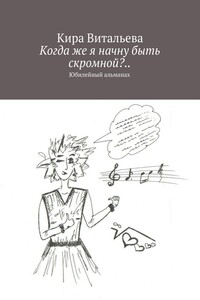— Горим!!! Все за водой!!!
Трое — Вихрев, Дух и Бух — схватили ведра в коридоре, стены которого тоже лизали языки пламени, и кто в чем был побежали на колонку.
Как-то Бух, прозванный так за любовь к счету, засек время, за которое на колонке наливается одно ведро. Выходило — минута сорок. Три ведра — пять минут.
Когда прибежали, огонь обнял весь дом. Мэри вытаскивала какие-то вещи. Выплеснули ведра. Капля в море. Побежали за новой водой.
Старший лейтенант Сбитняков с летучим отрядом прибыли по адресу: улица Славянская, 4б, когда пожар потушить было уже невозможно. Мэри с обгорелыми на макушке волосами стояла поодаль и орала в голос. Рядом стояли хронопы, включая тех, кто принес красненькое.
В сугробе валялся опрокинутый “Олимп”.
Еще вчера вечером старший лейтенант Скуцняков доложил генералу Итальянцеву о допросе старичка-лесовичка и о своей догадке. Брать Брюха было решено в 15.00. Суббота — удобный день. Смилдяков уповал на то, что его догадка окажется верна. Он на торопливых ногах подбежал к Мэри:
— Брюх этот ваш, он ведь прячется в подвале? Во втором подвале, в нижнем, да? — перекрикивая треск пожара, нервно допрашивал старлей.
Мэри отвернулась.
Спизжяков скомандовал своим, чтобы те вызвали пожарку.
Спирдяков скомандовал хронопам, чтобы снова бежали за водой.
Прибежал на Славянку и запыхавшийся Сухарев. Отправив на задание Спетрякова, генерал Итальянцев связался с полковником и рассказал о том, где может прятаться его дочь.
Сухарев не терял времени. Он поднял воротник пальто, завязал ушанку под подбородком. Окатил себя двумя ведрами воды и бросился в пламя. Внутри что-то грохнуло. Потом ахнуло и ухнуло.
Брюх догадался о неладном слишком поздно. Он уперся обеими руками в крышку люка, слегка поднял ее, оттуда полыхнуло обжигающим. Он отпрянул, спрятал за веками зрачки. Закашлялся.
— Бллллль, там пожар!
Он опустил крышку, отбежал к стене. Та еще была холодной. Взгляд его упал на катушку с альбомом “Сержант Пеппер, живы твои сыновья!”. Алюня заскулила по-рысьи. Говорить было бесполезно, можно было только рыдать, орать, гомонить, закатывать истерики, заламывать руки, драть на себе волосы, царапать ногтями молодую кожу, вырывать глаза, бередить острым рану. Сердце слетело с петель.
Брюх присел на корточки. Воздух еще был пригодным для дыхания. Жизнь была еще вполне ничего. Линии судьбы на ладонях еще поддавались чтению.
Сухарев впивался обугленными пальцами в крышку люка, ведущую в нижний подвал. Доски горели, и не удавалось подцепить края. Пескарь ослеп. Жабры слиплись. Плавники рассыпались. Хвост поджарился. Голоса не было.
Оказывается, огонь умеет петь во всех тональностях. Только что пел в ля миноре, а вот уже перекинулся на до мажор. А припев — с модуляцией на полтора тона вверх. В каком же тогда тоне огонь возопит в кульминации?
Пламя создавало плотную и монументальную стену органного звука. В нее вплеталось перкуссионное кружево — щелчки, потрескивания, громовые удары гонга, мрачные и безжалостные синкопы взрывающихся годовых колец. Концерт, пробирающий до мурашек.
У невольных зрителей не было других мыслей, кроме: “На сколько нас хватит? Долго ли мы еще продержимся?”
Дозморов Олег Витальевич родился в 1974 году в Свердловске. Окончил филологический факультет и аспирантуру Уральского университета и факультет журналистики МГУ по специальности “экономика и менеджмент СМИ”. Автор трех поэтических книг, выпущенных в Екатеринбурге. Публиковался во многих журналах и альманахах, стихи переведены на европейские языки. Живет и учится в городе Аберистуите (Великобритания). В “Новом мире” публикуется впервые.
* *
*
Приветствую. Уже часов с пяти-шести
ужасно тянет спать и ужинать охота.
И хочется уйти, но с этим не шути —
ты помнишь, как тебе нужна эта работа.
Одиннадцатича-совой рабочий день
ознаменован пе-рерывом, как цезурой.
Напротив желтый дом плечом уходит в тень,
другой — выходит из трагической фигурой.
Возвышенная злость, лирическая спесь!
Вы не должны смущать чистюлю-привереду.
И Ходасевич был уже. Точнее, есть.
Лет через пятьдесят отпразднуем победу.
Ну а пока в Москву выходит гражданин
из офисного дна и движется понуро
вперед по Моховой, пожизненно один,
и тень его длинна, как ты, литература.
* *
*
Кружится ласточка-валлийка
в необоримой высоте,
а-ля гимнастка-олимпийка,
у неба в синем животе.
Мне всех подробностей не видно
полета — лишь ее одну.
Она спортсменка, очевидно,
и выступает за страну.
Я за страну не выступаю,
стою на кельтском берегу,
недальновидно поступаю,
но стыд, как песню, берегу.
* *
*
Море невидимое, панъевропейский сон.
Море где-то за окнами, сон — повсюду.
Вот так же сначала с севера кельтов сонм,
потом англосаксы с юга, потом датчане, потом — посуду
добропорядочный бьет на кухне засранец да
ссут в переулках болельщики, на трибунах
надувшись дрянного пива. Что за, господи, ерунда:
сон свалил потомков всадников и трибунов.
Спите крепко, Джордж, Брайан и Крис,
укрывайте в подушках вытянутые фейсы,
пока под покровом ночи, похожие на голодных крыс,
вдыхая воздух аэродрома, прибывают новые европейцы.
* *