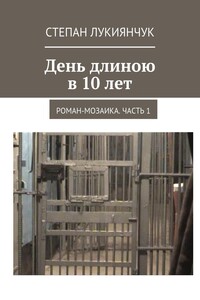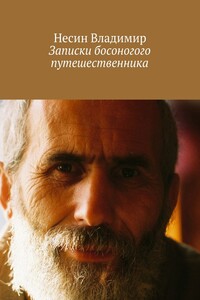И вот звучание похорон или греческой свадьбы…
А когда он слышит музыку…
И вот наше с блестящим большим гвоздем крыльцо…
И оцинкованное ведро, поблескивающее серым боком…
Я до безумия тогда люблю его лицо,
Так искалеченное в его детстве далеком…
Тогда он светел весь и светом осиян.
Тогда он посвященный и хранитель звуков и тайной их планеты…
Кричат литавры, и ладони бьют в турецкий барабан,
Открыто и отчаянно поют кларнеты…
В то утро поднимается рассветного солнца красный круг
И растворяется в сверкающие жаром переливы.
Мой дед молчит,
сжимая скрещенные пальцы смуглых рук.
И ты, наверное, такой же молчаливый…
Его отец — ветвистый карагач,
и целый жаркий день
Всей силой темных мускулов, древесно слитой по крупицам,
Дарует живое дерево приют и тень
Своим возлюбленным певцам — восточным птицам…
Прохлада утренняя перед жарой дневной,
и от песчинок прилипших
на ступнях босых — слабый зуд.
Он позволяет мне снимать сандалики,
и пальцам ног становится свежо и колко.
И маленькие горлицы округлые перекликаются,
друг дружку зовут,
И щелкает громким голосом невидимая перепелка…
А где-то далеко
всегда тепло.
И можно всегда ходить босиком.
И золотой мечети свет
летит на плоский светлый камень…
А здесь меня он кормит вкусным кислым молоком
И греет мягкими и крепкими тяжелыми руками…
Я никогда не понимала, что он уже очень стар.
И я не так, как надо, проводила его, когда пришло время разлуки…
Я помню, как я с ним за руку ночью иду через базар,
А вода в канавах-арыках журчит,
И он спрашивает, слышу ли я эти стройные странно-скромно-красивые
и свободные звуки…
А эти каменные прилавки черны,
и темная пустота.
И в темноте люди, темнбо-видимые, играют в карты.
И ждешь от этих людей какого-нибудь очень страшного поступка.
И это страшно все и безысходно как-то.
И маленькая лампочка электрически горит,
как будто какая-то странная пустая и тонкая скорлупка…
Только ему эти люди не страшны, и он никого не боится.
И мимо них проходит со мной.
И я с ним не боюсь. И черная летучая мышь или ночная птица
Смелыми широкими кругами непонятно летит над площадью базарной
ночной…
Вот он мгновенно склоняется и с каменного прилавка что-то берет.
Это бутылка пустая. Одним ударом о камень темный он
отламывает бутылочное горлышко,
и края стеклянные рвутся и заостряются.
Он ударился костяшками пальцев о камень, я чувствую по стуку.
Но боли не выдает,
напряженно сгибается вперед
И резко вскидывает согнутую в локте руку…
Он жертвой остаться никогда, ни за что не мог.
Все зацветает кровавым красно-арбузным цветом.
Я понимаю внезапно, будто озарение, и признабю
движения страшные сжатых кулаков и отчаянных ног.
Мужское естество сверкает в этом…
И ночью однажды я, маленькая, просыпаюсь, и вижу свет из кухни,
и тихо туда иду.
В тесной комнате дыхание братьев и отца и матери,
как будто тяжело дышат в темноте непонятные наполовину люди —
наполовину сказочные звери.
Если проснется кто-нибудь и спросит, зачем,
я могу сказать про малую нужду.
Я тихо подхожу в короткой белой рубашке и босиком
и прижимаюсь к стене возле приоткрытой двери…
Он, до пояса раздетый, смуглый и худой.
Женщина овладела им!
Бабушка моя властвует, словно злая колдунья,
она его схватила, и наклонила его над тазом с водой,
И моет ему голову мылом, а он всхлипывает, как мальчик,
потому что мыло попадает в глаза и сильно горячая вода…
И вот оно опять — мужское естество.
С такою кротостью и силой держит он буханку хлеба.
О, как я рвусь тогда боготворить его,
Как будто телом всем впиваю море или небо…
Я так люблю его!
Такие ласковые нежные теплые губы его огромного искалеченного
рта…
Он вдруг распрямляется —
и похож со своей палкой на великого того пастуха из древности,
шагающего горделиво за своей отарой.
Меня в моей любви остановить не может его хромота
И темнота его одежды грязной старой…
А в его страсти к любому звучанию музыкальных инструментов —
такой таинственный и нежный пыл…
Вот он босой,
и ногти у него такие большие, страшные, кривые,
как будто сказочные когти,
а рядышком —
тихая запыленность его темных