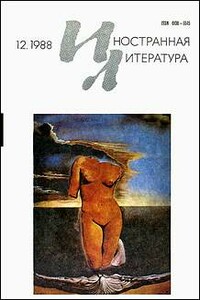Наталья, моя красивая соседка по палате, появляется в клубах сигаретного дыма на пороге. Удовлетворенно кивает. Здесь уже не продохнуть. Она кажется посланником откуда-то не из этих мест — так чиста и бела кожа, так рыж каштан волос и ярки губы.
Она придерживает дверь, и вдруг ее ведет, она падает. Анна у нее — в один прыжок, только Инна щурится, выпуская струю дыма, сидит нога на ногу и качает верхней. Наталья лежит без чувств, лицо ее больше не красиво: неестественно бледное, с зеленцой, ощеренный провал рта и белки из-под ресниц.
Милаида Васильевна, крупная, белая, вперевалку бежит — санитарка первой палаты — и говорит очень громко, голосом высоким, таким, от которого закладывает уши:
— Сколько раз говорить! Встала с постели — сиди. Посидела — пошла. А то скок — и помчалась! Ну, ну? Так и будем в обмороке валяться? Зла на вас не хватает!..
Отделение обедает в светлом холле, отгороженном красными шторами от коридора, — столовой. Я пока не бывала там, видела, когда проходила в процедурный или из процедурного. В первой палате — изоляторе — обедают отдельно. Тут свои два колченогих стола: железные ножки и столешница, на время завтрака, обеда или ужина их стыкуют, а потом растаскивают по углам.
Обед: первое и второе. Свекольный суп, обжигающе горячий или совершенно остывший, каша, гречневая, разваренная в серую слякоть, реже пшенная, крепкая, комками. Слабый холодный чай, треть кружки. После обеда — таблетки или уколы и мертвый час. Никому не дозволялось шариться без дела, не можешь спать — лежи. Как в детском саду. Мы здесь дети, простодушные, хитрые, злые дети.
Наталья лежала на своей кровати в сознании, щурилась и улыбалась.
Егор Деренговский для чего-то пришел ко мне. Навестить. Принес бананов, апельсинов. Вяло пожевав апельсинную дольку, я зачем-то рассказала ему, как отталкивала сжавшую кулаки сифилитичку от беспамятной старухи, а Наталья воскликнула: “Не заступайся ты за нее! Вот больная!..”
Мы сидели с Егором в клеенчатых кресельцах без поручней. В холле. Те, к кому пришли, были со своими, а вокруг ходили те, к кому не пришли, и заглядывали в лица, смотрели, кто что ест, просили себе внимания.
— Сумасшествие — может быть, единственный естественный ответ на всю эту бессмыслицу! — посочувствовал Егор. — Безумец — некто более умный, чем умники. Любое здоровое движение они непременно объявят сумасшествием. В России издавна так повелось, сколько угодно примеров и из истории…
— Например, какие же?
— А хоть бы история Чацкого!
— Чацкого! Это совсем не из истории, это, наоборот, из литературы — из такого, что никогда историей не было и не могло быть.
— Это действительностью не могло быть, а историей могло и было!
В России вообще всю историю всегда составляла одна литература, — проворчал Егор. — Ну хорошо, Чаадаев…
Чувствовалось, он во что бы то ни стало желает меня утешить. Хотелось как-то успокоить его.
— Беда общества в том, что оно делит безумие на умное, которое надлежит всячески поощрять и воспитывать, и неумное, неразумное, бедное больное безумие, которое следует устранять от общества, чтоб не распространялось, как зараза, укрощать, сводить на нет и требовать от человека признания себя больным, то есть кем-то таким, кто еще может выздороветь или не владеет собой, кто должен быть подвергнут лечению, невзирая на его собственное мнение. Безумие — вот последний оплот сопротивления: вы тяготитесь деньгами — вы безумны, вы недоумеваете о том, что у нас само собой разумеется, — вы сумасшедший, вы уходите от того, что признается всеми желаемым, — вы опасны для окружающих. Вместе с этим здесь сосуществует, чувствуя себя в полной безопасности, безумие другого типа: оно не только не болезнь, но даже, напротив, особый признак душевного передового здоровья. Любящий всю жизнь одного человека — болен и безумен, неразборчивый в связях — напротив, достоин уважения и почтения. Человек, полагающий смысл своей деятельности в процветании отечества, — пустобрех и безумец, а какой-нибудь бандитик, положивший жизнь на то, чтобы скопить денег, которые только и обременяют его что заботой о них, о деньгах, и вообще, можно сказать, не существуют иначе как в виде фикции в его сознании, — коммерческий гений. Даже интернетчик, переставший общаться с реальными людьми и заперший сам себя в комнате с экраном, в случае, если получает за это деньги, — умен, а если только тратится на Интернет — совершеннейший дурак, и не важно, в чем заключается его деятельность.
Он прервал свою речь неожиданным вопросом:
— Слушай, ты не хотела никогда пострадать?
— Пострадать? Конечно нет! Что значит — хотела — не хотела?
— Может быть, претерпеть какие-то репрессии, ссылку, каторгу и все такое. Не было у тебя такого желания? У меня было. Знаешь, я завидую тебе.
— Завидуешь? Мне? Чему ты завидуешь?
Но нет, он говорил именно о моем пребывании в сумасшедшем доме. Я разозлилась — надо же, какое прекраснодушие!
— Я целыми днями не вижу никого, кроме этих людей, и ничего, кроме этих зеленых плинтусов, и мне колют какую-то дрянь, названия которой даже не сообщают, хотя у меня все равно нет возможности здесь узнать, от чего она и какие от нее последствия.