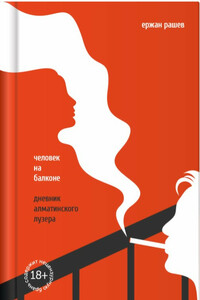При всем том Шпулин был совершенно равнодушен к вопросам организации хозяйственного механизма и не видел большой разницы между частной собственностью на средства производства и общественно-государственным способом владения оными. Вообще, насколько он знал семейную историю, Гороблагодатские не имели никакого отношения к буржуазному классу — ну разве что дядя, Аристарх Елизарович, имел какое-то “дело” в Кишиневе и на том “деле” совершенно разорился.
Так что слово “производство” у Шпулина связывалось в уме с какими-то трубами, копотью и стихами Блока про желтые окна. Впрочем, маленький опыт соприкосновения с “производительными силами” у него все же был: в детстве маленького Виталика водили на завод Лесснер — он уж не помнил, за какой надобностью. Ничего не запомнилось, кроме звуков: визг механического точила, хруст стружки под маленькими детскими калошками, да еще какое-то “тум, тум, тум” — и папино, на ухо: “Это, сынок, паровой молот”.
С тех пор Виталий Игнатьевич не бывал в местах, где из железа делают машины. Даже в тридцатые, когда молодой, тощий, заросший рыжей щетиной шкраб выступал перед рабочими коллективами с лекциями о Шекспире и Кристофере Марло, он умудрился ни разу не зайти в цех. Кстати, чудовищное слово — “шкраб”, сокращение от “школьный работник” — Виталий Игнатьевич воспринимал почти без эмоций, полагая, что подобная мерзость долго не протянет и сдохнет сама. В отличие от живучих уродцев “Ленинграда”, “СССР” или, не к ночи будь помянута, “ЧК”. Эти косорылые словечки были слеплены с большим запасом прочности. Шпулин чуял за ними какую-то отвратительную бесовскую живинку.
Вообще-то выступать перед рабочими ему нравилось. Спервоначала, конечно, странная большевистская блажь — сгонять пролетариат слушать лекции об искусстве — показалась Виталию Игнатьевичу типичнейшим примером метания бисера перед свиньями. Но потом он убедился, что рабочие слушают хорошо, глупых вопросов не задают, а главное — говорить можно о чем угодно. Через некоторое время Шпулин научился вообще отключаться от происходящего: все шло само, как та самая дубинушка зеленая, которой полагалось почему-то “ухнуть”. Жаль, что в юном возрасте Виталий так и не добился от папы удовлетворительных разъяснений насчет дубинушки, а теперь уже и поздно было: папа успел помереть от банальной инфлюэнцы, у большевиков в очередной раз кончились лекарства... Мама на похороны не пошла. К тому времени она вбила себе в голову, что ее муж виноват перед семьей — дескать, в девятнадцатом году он так и не решился эмигрировать вместе с Кулешовыми.
Кулешовых Шпулин помнил очень хорошо: в их загородном доме мама с папой были “гостями жданными, желанными”. Так говорила бабушка Вера — всплескивая руками и порывисто обнимая молодую и красивую маму. Когда это было? Сырой весенний ветер дует в лицо, выворачивая из сложной маминой прически шляпку с ленточкой, небрежно приколотую шпилькой. Шляпка, медленно кувыркаясь, катится по воздуху, держа курс на кусты крыжовника. Маленький Виталик, морща лобик, соображает, что лучше бы шляпке лететь левее, в крапиву, — тогда все вместе сложилось бы в “метафору социальных отношений”. Откуда это? Ах да: про социальные отношения разговор был вечером, на веранде, за чаем. Папа пытался раскурить сигару на ветру, получалось плохо, а в это время маленький господин Марк Иосифович Кулешов, смешно подпрыгивая и размахивая руками, цитирует Прудона про собственность и кражу, а потом говорит о Петербурге: “Этот дивный город заброшен в дикие злые пространства России, как французская какая-нибудь галантерейная вещь — в крапиву”.
Шляпка все же приземлилась за два шага до переплетенных зарослей, шляпка благополучно спасена, и мама потом ходит в ней весь вечер, загадочно улыбаясь.
Ах, когда же это было? Память вытягивает из своего альбома жаркий полдень. Маленькая Муся Кулешова трогает пальчиком западающий зуб фортепьянной клавиатуры, вызывая к жизни низкое тягучее “до” субконтроктавы. “Ду-у-у-у-у-у”. Бессмысленный сладкий звук плывет над садом.
Цветут дикая мальва и желтые ирисы на болоте. Мяч улетел за изгородь. Бабушка Вера принесла в сад ленивую серо-белую кошку.
А вот и конец нежной дружбы: Муся на вокзале. Повзрослевшая, стройная, она встает на цыпочки и целует Виталия в рыжую бровь. “Едем через Финляндию”, — говорит где-то за кадром невидимый глазу господин Кулешов. “Мы приедем, когда в России кончатся большевики”, — шепчет Муся и целует его еще раз — по-настоящему, в губы, крепко... Она приедет, шепчет он, она приедет, когда кончатся большевики. Большевики кончатся, она приедет, они поженятся.
Получилось как раз наоборот: все кончилось, кроме большевиков.
— ...и, таким образом, Шекспир — не только огромный шаг вперед, но и в эстетическом плане не менее огромный шаг назад по сравнению с тем, к чему стремились ранние английские драматурги. У меня все, — заканчивает Шпулин.
Рабочие сидят притихшие, с добродушными неумными лицами. Выскакивает заведующий со своим обычным спичем:
— Есть вопросы? Товарищи, у вас есть еще вопросы к лектору? Нет вопросов? Расходимся организованно! Организованно, товарищи, расходимся!