Новый мир, 2004 № 10 - [28]
Когда Эльза Филаретовна вернулась домой, я увидела, что она разгневана. Профессор сказал ей, что будет осматривать меня в присутствии целой аудитории студентов-медиков. Я скривила лицо, собираясь заплакать, но Эльза Филаретовна пламенно обняла меня и сказала, что никому не позволит смеяться над раздетым ребенком и что мы пойдем на консультацию к знакомому старичку, давнему ее поклоннику, который хорошо разбирается в этом заболевании, а родителям скажем, что были у светила. Я быстро на это согласилась и спросила ее о книге. “Деточка моя, эта прекраснейшая из книг написана писателем Метерлинком. О, как я мечтала сыграть сестру Беатрису… Но во времена моей молодости на сцене все больше ставили „Оптимистическую трагедию” и „Аристократов”, разбавленных классикой”. И всю ночь она читала мне вслух чудным голосом старой актрисы пьесы, в которых ей так и не довелось сыграть. Очарованная, под утро я спросила ее о цветах, выпавших из книги. Оказалось, им было столько лет, что в них могли уместиться семь моих жизней, все семь!.. Каждый цветок вез на себе воспоминания о любви, как синие стрекозы — малютку Дюймовочку. Тот, кто принес мак, погиб во время Первой мировой войны в Брусиловском прорыве. Сорвавший вербену большевик-чекист умер от скоротечной чахотки. Хмель подарил водитель трамвая, так сильно влюбленный в актрису, что всю свою комнату оклеил ее афишами. Вьюнок сорвал летчик, погибший на войне в Курской битве. Эльза Филаретовна сохранила им верность, бродя по заглохшим садам, сырым подземельям, мрачным пещерам, освещенным мириадами бликов ее памяти. Почему она положила цветы именно в эту книгу? Потому что герои ее говорят на внятном любому сердцу детском языке, потому что они сохранили верность детским “секретам”, потому что, даже состарившись, они так и остались детьми, потому что знак родства с ними заключен в ее диковинном имени — Эльза, ведь герои этой книги, все до единого, носят ангельские имена: Игрена, Алладина, Урсула, Маделена, Клорибелла, Эглантина, Жуазель…
Она провожала меня на вокзал с котом в корзинке, букетом настурций и цинний, который мы потеряли по пути, и взяла с меня слово, что я буду писать ей письма. И что я не скажу родителям, что толковые врачебные рекомендации даны безвестным старичком, старым ее поклонником. Я села в вагон, и Эльза Филаретовна стала удаляться от меня спиной в свое прошлое со своими любимыми, дарившими ей вечные цветы, один из которых, колокольчик, подаренный сгинувшим в сталинских лагерях священником, был заложен на странице со словами, летевшими впереди меня: “Неужели невозможно проникнуть в будущее, хотя бы необычайными, отчаянными усилиями, вступить в борьбу со временем и вырвать у годов — хотя бы они отомстили нам обоим — тайну, которую они так ревниво охраняют и в которой заключено нечто большее, чем наша собственная жизнь и наше счастье?..” Возможно, возможно, отвечали пламенные голубые розы и лепестки пурпурного мака, хрупкие нерушимые “секреты”, хранившиеся в старой книге, возможно, еще как возможно, — только сделай шаг.
САДЫ В ОБЛАКАХ
Ваня сидел скрестив ноги на бабушкиной кровати в сумеречном коридоре больницы, заставленном койками, на которых страдали больные и умирающие. За окнами гремела гроза; в паузах между молниями, падающими во тьме, как подмытые водами опрокинутые огненные деревья, кровати больных со смутными фигурами близких в изножье напоминали погребальные лодки со служителями на корме, которые доводят ладью до середины Серебряной реки и, предоставив усопших течению, бросаются в воду, чтобы достичь берега вплавь. Двери палат были настежь раскрыты; больничный коридор озарял дикарский свет молнии, на одно пронзительное мгновение возвращая смутным фигурам их усталые лица с прикрытыми веками, спутанные волосы, руки, машинально поправлявшие на своих родных больничные одеяла. И Ваня, вторя жесту миловидной женщины у соседней койки, тоже прикрывал огромный бабушкин живот с выпяченным пупком, при близкой вспышке молнии бабушка пугалась и сбрасывала с себя одеяло. Бог грома с синим лицомЛэй-гунприпадал к окнам палат и тут же исчезал в высоких небесных окнах, показывая, что сообщение между небом и землей прервано, и дыхание тяжелобольных замирало, покаЛэй-гунэлектрическим разрядом снова не оживлял его. И каждый раз, когдаЛэй-гунбросал яростный взор на людей, Ваня успевал увидеть то милую белокурую женщину, поправлявшую одеяло на своей больной, то прислоненную к спинке кровати палочку бабушки, похожую на иероглиф “фэн”, которую Ваня выточил из дуба, придав ей форму опрокинутого дерева (что, по поверью, приносит счастье), — пустую, без бабушки, палку, — и глаза его в резвом свете небесногоЛэй-гунанаполнялись слезами… Ломин говорил: подобно тому как поза танцовщицы Танцао переходит на ее тяжелое парчовое одеяние, так изяществовосьми стихийоблекает человеческое тело, пока в нем есть дыхание, но когда отпущенный каждому объем воздуха истощится, душа станет Танцао, сбросившей обшитое жемчугом парчовое платье, и танец ее рук и ног станет исступленным, как молния, в мгновение ока пересекающая небо от востока до запада, — это что касается пространства, а что относится ко времени — плясунья одной рукой коснется восхода солнца, другой — притронется к закату, и в этом нет ничего удивительного: в древнейшие времена на небо как-то выкатилось десять солнц, и засуха длилась до тех пор, пока стрелок И, у которого левая рука была длиннее правой, не поразил их десятью стрелами, после чего пролился дождь, и его капли упали на парчовое платье Танцао, превратившись в тройной жемчуг…
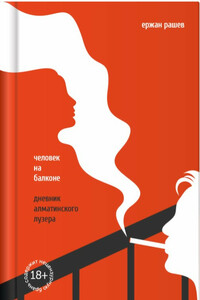
«Человек на балконе» — первая книга казахстанского блогера Ержана Рашева. В ней он рассказывает о своем возвращении на родину после учебы и работы за границей, о безрассудной молодости, о встрече с супругой Джулианой, которой и посвящена книга. Каждый воспримет ее по-разному — кто-то узнает в герое Ержана Рашева себя, кто-то откроет другой Алматы и его жителей. Но главное, что эта книга — о нас, о нашей жизни, об ошибках, которые совершает каждый и о том, как не относиться к ним слишком серьезно.

Петер Хениш (р. 1943) — австрийский писатель, историк и психолог, один из создателей литературного журнала «Веспеннест» (1969). С 1975 г. основатель, певец и автор текстов нескольких музыкальных групп. Автор полутора десятков книг, на русском языке издается впервые.Роман «Маленькая фигурка моего отца» (1975), в основе которого подлинная история отца писателя, знаменитого фоторепортера Третьего рейха, — книга о том, что мы выбираем и чего не можем выбирать, об искусстве и ремесле, о судьбе художника и маленького человека в водовороте истории XX века.
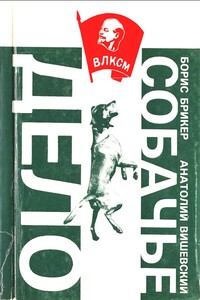
15 января 1979 года младший проходчик Львовской железной дороги Иван Недбайло осматривал пути на участке Чоп-Западная граница СССР. Не доходя до столба с цифрой 28, проходчик обнаружил на рельсах труп собаки и не замедленно вызвал милицию. Судебно-медицинская экспертиза установила, что собака умерла свой смертью, так как знаков насилия на ее теле обнаружено не было.

Восточная Анатолия. Место, где свято чтут традиции предков. Здесь произошло страшное – над Мерьем было совершено насилие. И что еще ужаснее – по местным законам чести девушка должна совершить самоубийство, чтобы смыть позор с семьи. Ей всего пятнадцать лет, и она хочет жить. «Бог рождает женщинами только тех, кого хочет покарать», – думает Мерьем. Ее дядя поручает своему сыну Джемалю отвезти Мерьем подальше от дома, в Стамбул, и там убить. В этой истории каждый герой столкнется с мучительным выбором: следовать традициям или здравому смыслу, покориться судьбе или до конца бороться за свое счастье.

Взглянуть на жизнь человека «нечеловеческими» глазами… Узнать, что такое «человек», и действительно ли человеческий социум идет в нужном направлении… Думаете трудно? Нет! Ведь наша жизнь — игра! Игра с юмором, иронией и безграничным интересом ко всему новому!

